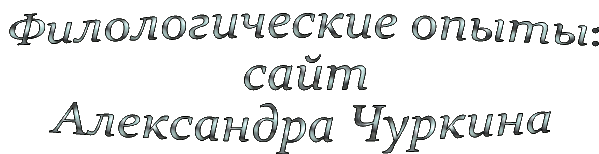Чуркин А. А.
Мемуарно-автобиографическая проза С. Т. Аксакова: проблемы поэтики
Глава 3. Стилистика мемуарно-биографических очерков Т. Аксакова.
1. Проза Аксакова и проблема «среднего стиля».
Распад морально-риторической системы, как мы показали в первой части нашей работы, привел к коренной перестройке отношений, размыванию границ между жанрами литературы, в том числе между мемуаристикой и романом. Наблюдение Белинского в его статье «Взгляд на русскую литературу за 1847 год» можно воспринимать как свидетельство очевидца этого процесса: «Наконец самые мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, ценимые только по мере верной и точной передачи ими действительных событий, самые мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою».1 Новое место, которое мемуаристика отвоевывала для себя в то время в литературе, ее сложные диалогические отношения с романом, как мы видим из этих слов критика, определялись спецификой ее взаимоотношений с действительностью. Однако роман роману – рознь: сохраняя внутри себя единство базовых принципов поэтики, с точки зрения стилистки, этот жанр предоставляет широчайшую свободу в выборе языковых средств; откуда и выросло все разнообразие форм, которые он выработал за историю своего развития. Роман остается романом вне зависимости от того, каким языком он написан: живым, современным, разговорным или архаичным, искусственным, поэтому, но как сказали бы биологи, «внутривидовая» конкуренция нередко становится более острой, чем «межвидовая». Не случайно, комментируя выше приведенные слова Белинского, А. В. Чичерин замечает: «Решительно отвергая право называть романом все «бьющее на эффект», Белинский, наоборот, приближает вплотную к роману мемуары, считая их за «последнюю грань в области романа». Настоящий роман – больше, чем мемуары. Но в мемуарах есть доля того, что есть в романе, – жизненная правда. Тогда как у романа с «романом» (то есть сочинениями Марлинского, Дюма и др.) даже и общего ничего нет».2 Вот почему в то время, когда морально-риторическая система стала сдавать свои позиции, именно проблемы языка и стиля стали главным полем битвы за реалистическое отображение действительности и в романе, и в мемуаристике.
К середине XIX столетия слово «риторика» стало почти ругательным: с ним связывались фальшь, поза – то, что в то время называлось словом «эффектерство», но упрек в этих грехах обращался не столько в адрес жанров, непосредственно связанных с ораторской прозой, сколько к романтическому роману и повести. Историческое развитие такого сложного явления, как литература, полно парадоксов и противоречий, архаичные формы искусства не раз становились средством борьбы за обновление его форм. Нет ничего удивительного и в том, что такой сугубо консервативный, риторический жанр, как мемуары, сыграл важную роль в обновлении языка беллетристики, очищении ее от «перегибов» романтической стилистики; от того, что на фоне зарождавшегося реализма в ней стало восприниматься вычурным и неестественным. Дело в том, что к середине XIX века мемуаристика как жанр еще не утратила внутренней стилистической целостности: связь с риторической традицией позволила ей избежать искушения романтизмом – с его экспериментами в области языка, эклектикой, игрой на контрастах... Именно эта ее особенность делала мемуары союзником реалистического романа в момент, когда «все <…> устремлено к созданию целостного стиля, который, так или иначе, выразил бы всю полноту жизни и всю полноту ее осмысления. <…> Слово риторическое и слово антириторическое вынуждены были, так или иначе, сосуществовать. А отсюда и формы как «беспринципного», путаного компромисса между ними, так и закономерного объединения».3 Творчество Аксакова дает нам широкое поле для наблюдения за этими процессами взаимодействия, компромисса между «старым» и «новым» в языке русской мемуаристики середины XIX века.
Практически вся художественная проза Аксакова, с точки зрения поэтики и стилистики, довольно однородна; язык ее не претерпевал сколько-нибудь серьезных изменений с момента первого появления писателя в большой литературе (в 30-х годах) и вплоть до его последних дней.4 Исключения, в которых можно разглядеть своего рода романтические эксперименты с языком, немногочисленны: например, некоторые эпизоды в первом отрывке «Семейной хроники», над которыми Аксаков начал работать еще в 40-е годы. В еще более раннем очерке «Буран»5 А. Дуркин отмечает наличие стилистических элементов, говорящих о влиянии на Аксакова прозы уже упомянутого Бестужева-Марлинского.6 Как бы то ни было, но уже к началу 50-х годов язык прозы Аксакова обретает целостность, очевидную для современников. Мы уже отмечали почти единодушное отношение к ней критиков как к эталону ясности и чистоты. Наиболее полно его сформулировали Хомяков в своем некрологе Аксакову, а при жизни писателя – Тургенев. Недаром в то время, когда борьба за новую стилистику поляризовала пространство литературы сильнее, чем идеологическая, славянофильски настроенный Аксаков оказывался союзником не только Тургенева, но и даже Белинского, поскольку «оба отдают явное предпочтение произведениям, отмеченным печатью простоты. Наглядный пример тому в критике Белинского – противопоставление «простого» Гоголя «сложному» Марлинскому, а в критике Тургенева – противопоставление эпически спокойного и уравновешенного, «неухищренного» творчества С. Т. Аксакова литературе «нервической», изощренно субъективной».7
Итак, у Аксакова рано сформировались отчетливые стилистические критерии, которыми он пользовался в своем творчестве. Но каковы они были? Как их формулировал для себя сам Аксаков? Начинал он свою литературную деятельность как театральный и литературный критик, однако в ранних его статьях не так много места уделено теории. Может быть, не очень обширный, но, безусловно, важный материал для исследования эстетических взглядов Аксакова дает его эпистолярное наследие 50-х годов. Прежде всего, это переписка с И. С. Тургеневым. На ней мы и будем, прежде всего, основываться в этой работе. Переписка их длилась с 1852 по 1859 год, но поскольку несколько раз прерывалась на длительное время, то объем ее невелик: 10 писем С. Т. Аксакова и 19—И. С. Тургенева. Ценность же этой переписки заключается в том, что в письмах Тургеневу, в отличие от адресованных к другим лицам, Аксаковым уделено много места обсуждению конкретных вопросов писательского творчества. Касается он и частных проблем: например, разбирает мелкие стилистические недочеты в том или в ином произведении, но, кроме того, в этих письмах содержится некоторое количество замечаний общеэстетического характера, важных для понимания его творчества в целом.8
Если попытаться рассмотреть и систематизировать взгляды Аксакова, опираясь на материал этой переписки, то мы обнаружим, что ключевым эстетическим критерием, фундаментом, на котором они строились, было для него «чувство меры». В своем письме к Тургеневу от 10 (22) марта 1853 г., оценивая повесть «Постоялый двор», он пишет следующее: «Повесть превосходная! Задумана глубоко и ведена с такою разумною мерою, какую редко можно встретить у самых талантливых писателей. Вы не соблазнились ни одним эффектом – ни в поступках действующих лиц, ни в явлениях жизни, ни в едином слове. Я высоко ценю эту меру, которая обличает строгость, чистоту убеждения и зрелость таланта».9 Чувство меры – важнейшая эстетическая категория, которая организует связь самосознания личности с ее проявлением вовне через язык, искусство т. д. Во времена Аксакова в своем практическом приложении оно заявляло о себе, прежде всего, через неприятие всякого рода крайностей, поверхностной эффектности. Надо сказать, вообще само это понятие, «эффектность», в аксаковском кругу носило очень конкретный и негативный смысл. Под это определение подпадали, во-первых, целый набор романтических и натуралистических художественных приемов, усвоенных из так называемой «неистовой литературы» 30-х10, а во-вторых, стилистика «официальной», патриотически-ориентированной литературы того времени. Именно такого рода фразерство и «эффектерство» воспринималось прямой эстетической противоположностью чистоты и ясности стиля, как писал об этом в своих «Воспоминаниях студентства» К. Аксаков: «Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект».11
Неприятие поверхностной эффектности и всякого рода крайностей было для Аксакова необходимым требованием не только когда речь идет о способах построения художественных образов, но и на более низком, лексическом уровне. Как крайность он воспринимал, например, злоупотребление диалектизмами и редкими словами. В том же письме к Тургеневу он развернуто высказывается по этому поводу: «…я считаю совершенною ошибкой употребление слов и выражений местных, провинциальных, для понимания которых надобно иметь словарь областных наречий. Язык должен быть общепонятный, русский. Вместо мнимого придаванья колорита местности, такие слова мешают общему впечатлению, по крайней мере, при первом чтении».12 Однако, даже принимая во внимание это его замечание, важно помнить, что сам Аксаков отнюдь не был пуристом: в его произведениях встречается немало столь редких слов, что и Даль и М. Фасмер в создании своих словарей использовали тексты Аксакова как, чуть ли не единственное, подтверждение их существования в языке.13 Для Аксакова был принципиален не столько сам факт появления малоупотребительного слова, сколько обоснованность и правильность его использования. Непосредственно перед приведенной только что цитатой из письма Аксакова есть еще одно его критическое мнение по поводу «Постоялого двора» Тургенева: «Что касается до языка, то мне встречались слова неточные и неверно употребленные».14 А в следующем своем письме он вновь, уже предметно высказывает свои замечания: «На первых страницах, мне помнится, сказано: «Здесь лежал постоялый двор» – лежал не говорится. Потом: «карета, запряженная шестериком кобыл» – помещики никогда не ездили на кобылах в экипажах; разве это какая-нибудь местная особенность?».15
Тщательное и даже щепетильное отношение к использованию художественных, и в частности, лексических средств, – наверное, одна из самых устойчивых особенностей аксаковского творчества и вообще отношения к литературе. Как упоминалось нами выше, А. В. Чичерин связывал ее с присущим Аксакову обостренным чутьем к «внутренней форме имени», со специфичным отношением к слову, с позиции «поэтической научности», выработанным им особым стилем образующим «единство филологического и естествоведческого мышления, крайне приближающего человека к природе».16 Мы также уже отмечали, что американский переводчик Аксакова Томас Ходж обращает внимание на специфичную монологичность «Записок об уженье рыбы».17 Сравнивая их с книгой о рыбалке Исаака Уолтона, он обращает внимание на то, что «у Аксакова нет полифонии, присущей Уолтону: у него нет ни драматических диалогов, ни вставок в стихах, ни полетов теологического экстаза, ни веселых гостиниц, ни хорошеньких фермерш. Книга русского писателя превращается во вдохновенный монолог, приглашающий читателя насладиться красотой природы».18 Этот список можно пополнить и чисто языковыми «фигурами умолчания»: у Аксакова нет или сведены к минимуму: архаизмы, поэтизмы и любая лексика носящая преимущественно книжную окраску.
По мнению Чичерина, Аксаков вырабатывал этот стиль, работая над «Записками об уженье рыбы». Однако требовательность к точности словоупотребления, единство «научного» и художественного взгляда на слово, как характерная черта его эстетических взглядов, заявила о себе значительно раньше, еще во времена его активной деятельности в качестве театрального и литературного критика, и оставалась неизменной на протяжении десятилетий. В 1830 году им была опубликована выше упомянутая нами рецензия «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» – очень показательная в этом отношении. Более половины статьи составляет скрупулезное перечисление по пунктам (более 50!!.) разнообразных языковых и историко-этнографических неточностей, допущенных Загоскиным в своем романе.19 Судя по всему, Аксаков считал эту статью если не программной, то важной для понимания общего направления развития своего творчества, поскольку в 1858 году вновь опубликовал ее в качестве приложения к своим «Разные сочинения С. Т. Аксакова». По поводу включения этой статьи в данное издание высказался довольно резко Н. А. Добролюбов: «В приложениях помещен разбор «Юрия Милославского», писанный г. Аксаковым в 1830 году. Он говорит, что читателям, вероятно, любопытно будет сравнить мнения одного и того же человека через 22 года (биография Загоскина писана в 1852 году). Мы сравнили – и не нашли никакой разницы».20 Однако если вынести за скобки весь сарказм, вложенный в эти слова критиком, нельзя не признать его правоту: в отношении к базовым эстетическим принципам, взгляды Аксакова за два десятилетия действительно практически не изменились. Осталась прежней и аксаковская щепетильность в отношении словоупотребления: приведенные нами замечания по поводу книги Загоскина, по сути дела, идентичны его замечаниям по поводу «Постоялого двора» Тургенева.
Одним из первых, кто обратил внимание на это особое отношение Аксакова к слову, был А. С. Хомяков. В своей статье «Сергей Тимофеевич Аксаков» он отметил как коренную особенность его творчества «верность и отчетливость выражений» и указал ее как источник ясности и образности его прозы: «Но в чем состоят художественные стихии его произведений? Во-первых, в языке, в котором он едва ли имеет соперника по верности и отчетливости выражения и по обороту вполне русскому и живому. […] Он чувствовал неверность выражения как какую-то обиду, нанесенную самому предмету, и как какую-то неправду в отношении к собственному впечатлению, и успокаивался только тогда, когда находил настоящее слово. Разумеется, он находил его легко, потому что само требование возникало из ясности чувства и из осознания словесного богатства. Эта строгость к собственному слову, и, следовательно, к собственной мысли, давала всем его рассказам, всем его описаниям неподражаемую яркость и наглядность, а картинам природы такую верность красок и выпуклость очертаний, какой не встретишь ни у кого другого».21 В отношении статьи-некролога Хомякова очень хочется нарушить принцип научной беспристрастности и поразиться ей самой. Опубликованная в середине XIX столетия, она по глубине проникновения в базовые стилистические особенности творчества Аксакова, по методологической проработанности соответствует уровню науки XX века, и более того, – современному уровню. Мы не раз цитировали и будем цитировать ее: тем более что, написанная человеком, близко знавшим Аксакова, она, возможно, – опосредованно, – до нас доносит то внутренне ощущение слова, которое ему было свойственно.
Однако такая черта аксаковской прозы, как точность словоупотребления, связана не только с присущим ему как писателю отношением к языку. Она является проявлением общей свойственной эпохе установки на реалистичность, верность детали и факту. Что касается Аксакова, то, кроме упомянутого длинного списка мелких неточностей, обнаруженных им в «Юрии Милославском», в качестве признака этой тенденции можно указать еще и на постоянные замечания по поводу «правдоподобия» актерской игры в его театральных рецензиях. С этой же общелитературной тенденцией можно связать и такую специфично аксаковскую черту, как особое внимание, которое он уделял конкретным людям, скрупулезность в отношении имен персонажей. При каждом удобном случае он старается перечислить максимально большее число людей. Иногда кажется, что ему не просто хочется упомянуть всех, с кем свела его судьба в течение всей его долгой жизни, но что он боится кого-нибудь случайно забыть. Чаще всего упомянутые им люди совсем не будут принимать никакого участия в дальнейшем развитии сюжета, а большинство из них вообще больше не будут упомянуты нигде на страницах его произведений.
Если исходить из предложенного Г. Н. Поспеловым22 деления авторских стилей, в отношении к использованию средств художественной выразительности, на номинативный и риторичный, то Аксаков, несомненно, тяготеет к первому. Практически все характерные признаки номинативного типа стилистики оказываются и основными составляющими стиля аксаковского: редкое употребление тропов, тщательность и точность в отборе лексических средств, экономное отношение к детали, которая используется, прежде всего, как средство характеристики персонажа, стремление к документальной точности, некоторая эмоциональная сниженность. Единственное, в чем можно увидеть отклонение от нее – это в периодическом риторическом повышении стиля, посредством введения Аксаковым восклицательных ремарок, отступлений, но они всегда оправданы содержанием эпизода.23
В своей концепции развития русской литературы середины XIX века Д. С. Святополк-Мирский исходил из противопоставления двух стилистических тенденций. В основании одной лежал принцип «слияния крайностей», и ярче всего она проявила себя в творчестве Достоевского. Другая, консервативная, была ориентирована на золотую середину «среднего стиля», представленную Тургеневым, Гончаровым и самым старшим среди них по возрасту Аксаковым.24 Вообще, само по себе, появление «среднего стиля» является свидетельством процессов, протекающих не столько в литературе, сколько в языке в целом, по мнению Г. О. Винокура: «С ним [стилем в его нормативном понимании] мы встречаемся, когда слышим выражения «прекрасный стиль или язык», «писать правильно, изящно, образно», «язык у него чистый или точный», или, наоборот, «небрежный, запутанный» и т. п. Все такие определения представляют собой качественные оценки данного применения средств национального языка в отношении к существующему в общественном сознании той или иной эпохи и среды идеалу пользования языком».25 На протяжении многих столетий этот идеал нормировался сложной и запутанной системой правил, вырабатываемых школьной риторикой. Базовыми принципами, на которых основывалась ее третья часть – «изложение» (elocucio), были: правильность, ясность, уместность и пышность. Реалистическая литература нового времени, девальвировав последний элемент этой четверки, «пышность», адаптировала остальные три к своим нуждам. «Правильность», «ясность» и «уместность», легли в основу нового идеала, с которым себя поверяли перечисленные Д. С. Святополк-Мирским писатели «среднего стиля», а вместе с ними – и вся литература в целом. В этом отношении, отмеченное выше почти полное единодушие современной Аксакову критики в оценке его произведений, и особенно постоянное подчеркивание его «прекрасного стиля», «чистого и точного языка», с одной стороны, свидетельствуют об ориентации самого Аксакова на существующий в обществе «идеал» пользования языком, а с другой, ставят его творчество в очень своеобразные отношения с литературным языком как таковым, определяя его прозу, как стилистический эталон того времени.
Этот идеал начал формироваться еще в 30-е годы XIX века в письменной речи русского провинциального дворянства, в дневниках, переписке. «Гоголевская эпоха оживила не один только язык художественной литературы, но и говор более или менее просвещенной части тогдашнего русского общества. Вышли из употребления стереотипные чопорные письмовники, характерные для XVIII века с их: «Милостивый государь! Если Вам угодно будет пожаловать…» Свободнее стала повседневная речь»,26 – с этого начинался, по мнению А. В. Чичерина, процесс, охвативший не только язык литературы, но и всю письменную речь образованной части общества в целом. Отмеченная нами в первой главе нашей работы свойственная Аксакову внутренняя интенция к преодолению сентиментализма была проявлением общего духа эпохи перемен. Морально-риторическая система отступала по всем фронтам: «Так начиналось высвобождение письменного языка повседневности из-под опеки школярской риторики. Место былых прописей занимала современная литература, ее живое слово, звучавшее со страниц журналов и книг. В сознании образованной части русского общества языковый идеал постепенно смещался с высокого стиля в сторону среднего, более богатого и гибкого в отношении использования речевых средств. Раскрепощение устного и письменного слова и связанный с этим выросший общий уровень культуры «многое определил в литературном стиле Ивана Александровича Гончарова и Сергея Тимофеевича Аксакова».27
Ориентированный на общепринятую литературную норму текст обладает одной важной особенностью: он принципиально монологичен. Такова его основная интенция, на которую в свое время обратил внимание В. В. Виноградов: «Монологическая речь повествовательного характера по своему лексическому составу, и по сочетанию слов в синтаксические ряды тяготеет к формам книжного языка как к идеальному пределу».28 Эта ее особенность отнюдь не случайна – она выработана веками существования в рамках морально-риторической системы. Ораторское искусство, по определению, по своей природе, устное, монологичное, породив для своих потребностей риторику как набор правил организации текста, неизбежно должно было эволюционировать в направлении усреднения, нормализации, кодификации языка, а значит, и постепенного отречения от своих устных корней – правильная, нормированная речь может быть только письменной. Распад морально-риторической системы породил обратный процесс, возвращения к истокам, усиления устной стихии даже в таком сугубо книжном жанре, как мемуаристика. Необходимость балансировать между этими тенденциями, возможно, является одной из причин того, что именно монологичность, нормированность, номинативность стилистики оказывается базовой чертой аксаковской прозы, ее еще одной внутренней интенцией. Здесь общие закономерности литературного процесса шли навстречу индивидуальным эстетическим взглядам Аксакова как автора.
Однако ориентация на нормативную стилистику не подразумевает догматичного следования ее требованиям. Наоборот, ее наличие предоставляет автору большие возможности для работы с языком повествования, как это ни парадоксально, но: «…чем меньше в литературном рассказе «социально-экспрессивных» ограничений, чем слабее его «диалектная» замкнутость, т. е. чем сильнее тяготение его к формам общего литературного языка, тем острее выступает в нем момент «писательства». А чем теснее сближение образа рассказчика с образом писателя, тем разностороннее могут быть формы диалога, тем более возможностей для экспрессивной дифференциации речей разных персонажей».29 Стиль Аксакова в этом отношении представляет собой разительный пример такого «писательства»: произведения его, написанные, на взгляд читателя, так просто и непритязательно, отличаются исключительным разнообразием художественных приемов, стилистической взвешенностью и осознанным отношением к выбору каждого слова.
Каким образом рассмотренные выше эстетические принципы Аксакова соотносятся непосредственно с его творчеством, мы попробуем рассмотреть на примере «Воспоминаний об Александре Семеновиче Шишкове». Именно это произведение Аксаков писал во время, к которому относится его цитируемая нами переписка с Тургеневым.
2. Стилизация речи героя в «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове».
Первые страницы «Воспоминаний об Александре Семеновиче Шишкове» дают нам образец «номинативной стилистики», наверное, в самом чистом, рафинированном виде. Здесь мы видим, например, акцентированную точность в передаче автобиографических данных, с датами, указанием места службы и целым рядом имен лиц, некоторые из которых, вообще более в аксаковских произведениях не будут фигурировать. Монологичность начала подчеркивается тем, что оно носит чисто автобиографический характер, поскольку в центре повествования находится сам Аксаков. Подобная автобиографичность, в какой-то мере, противоречила дальнейшему развитию основного мемуарного повествования, и, чувствуя некоторую инородность этой части по отношению ко всему произведению, Аксаков предваряет его словами: «Я хочу рассказать все, что помню об Александре Семеновиче Шишкове. Но я должен начать издалека» (Аксаков II, 266). Это «издалека» вряд ли стоит понимать в прямом хронологическом смысле: короткий эпизод из студенческих лет, с которого начинается произведение, и события основного повествования разделяют всего два года. Выбранное Аксаковым начало выполняет ряд важных функций. Во-первых, оно служит связующим звеном с другим произведением Аксакова: «Воспоминаниями». Связь эта – прямая: в «Воспоминаниях» Аксаков в момент, когда логика повествования подводит его к описанию этих событий, внезапно прерывается и отсылает читателя к другому произведению: «Я в то время боролся из всех сил противу этого подражания, подкрепляемый книгою Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге», которое увлекло меня в противоположную крайность. Я скажу об этом подробнее в другом месте» (Аксаков II, 148). Во-вторых, в этой вступительной части задается определенный повествовательный тон, через приближение или удаление от которого в дальнейшем будет выстраиваться общая стилистическая интонация произведения. И, наконец, этим и следующим за ним эпизодом, описывающим знакомство с А. И. Казначеевым, которым Аксаков подводит читателя к одной из основных тем этого произведения, попытке осмысления того явления, уже получившего к тому времени название «славянофильства», а сам Аксаков предпочитал называть «русским направлением».
Основная мемуарная часть «Воспоминаний об Александре Семеновиче Шишкове» закономерно должна была бы начаться с рассказа о знакомстве с ним. Последовательность изложения почти всех мемуарных очерков Аксакова подчиняется определенной схеме. Начинает он с относительно короткого вступления, в котором упоминает об окончании Казанского университета и приезде в Санкт-Петербург. Следом за этим он переходит к рассказу о знакомстве и истории своих отношений с главным героем своих воспоминаний. Так выстроены и «Знакомство с Державиным», и «Яков Емельянович Шушерин», и «Встреча с мартинистами». В случае же «Воспоминаний об Александре Семеновиче Шишкове» Аксаков делает еще одно короткое дополнительное отступление от традиционной композиции и предваряет рассказ о знакомстве еще одним относительно небольшим, но очень важным для понимания идейного содержания всего произведения абзацем – рассуждением о значении понятия «славянофильство».
Этот абзац о «славянофильстве» занимает особое место в «Воспоминаниях о А. С. Шишкове». Дело в том, что первоначальный замысел Аксакова имел очень определенную идеологическую и даже полемическую окраску. В своем письме к Тургеневу от 30 января 1853 года Аксаков так характеризуют цель написания этого произведения: «Несмотря на то, что я беспрестанно прихварываю, я принялся писать очень большую статью: «Воспоминание об А. С. Шишкове». Там будет определено значение тогдашнего русского направления».30 Вероятно, Аксаков намеревался, хоть и с некоторым запозданием, включиться в острую и затяжную дискуссию вокруг понятий «славянство», «славянофильство», развернувшуюся между «Москвитянином» и «Современником». Толчком к ней послужила статья Белинского, в которой он проводил параллель между славянством «Беседы» и современными славянофилами.31 Аксаков, в свою очередь, хотел объективно, как очевидец, показать все сходства и различия этих явлений.
Славянство А. С. Шишкова было явлением почти исключительно эстетическим и дело не только в том, что в повседневной жизни он был человеком европейской культуры, о чем Аксаков пишет даже с некоторой горечью: «Но что ж это такое было за славянофильство? Здесь кстати поговорить о нем и определить его значение. Надобно начать с того, что тогда, равно как и теперь, слово это не выражало дела. И тогдашнее и теперешнее так называемое славянофильство было и есть не что иное, как русское направление, откуда уже естественно вытекает любовь к славянам и участие к их несчастному положению. Впрочем, к Шишкову отчасти шло это имя, потому что он очень любил славянский, или церковный, язык и, сочувствуя немного западным славянам, много толковал и писал о славянских наречиях; но его последователи вовсе и об этом не думали» (Аксаков II, 270). Далее Аксаков подробно и вполне беспристрастно излагает и плюсы и минусы течения, идейным вдохновителем которого был герой его воспоминаний: «Русское направление заключалось тогда в восстании против введения нашими писателями иностранных, или, лучше французских слов и оборотов речи, против предпочтения всего чужого своему, против подражания французским модам и обычаям и против всеобщего употребления в общественных разговорах французского языка. Этими, так сказать, литературными и внешними условиями ограничивалось все направление. Шишков и его последователи горячо восставали против нововведений тогдашнего времени, а все введенное прежде, от реформы Петра I до появления Карамзина, признавали русским и самих себя считали русскими людьми, нисколько не чувствуя и не понимая, что они сами были иностранцы, чужие народу, ничего не понимающие в его русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на самих себя. Век Екатерины, перед которым они благоговели, считался у них не только русским, но даже русскою стариною. Они вопили против иностранного направления – и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски. Сам Шишков любил и уважал русский народ по-своему, как-то отвлеченно; в действительности же отказывал ему в просвещении и напечатал впоследствии, что мужику не нужно знать грамоте» (Аксаков II, 270—271). В этом отрывке Аксаков касается очень болезненной для славянофилов темы самоидентификации, национального самосознания и путях развития «русского направления».32 Болезненность этого вопроса порождалась его неразрешимостью. Поразительно, что, характеризуя А. С. Шишкова, он почти дословно повторяет общие негативные замечания А. С. Хомякова, направленные против господствовавшего в культурной среде представления о принципах просвещения, высказанные еще за семь лет до этого, в 1847 году: «Общая же черта обоих мнений та, что поклонники их ставят себя вне России, стараясь ее переделать по-своему; но, кажется, все еще возможнее привить ей жизнь чужую, но сильную и богатую, чем подчинить ее бездушной мертвенности личного эклектизма. Вообще должно помнить, что для того, чтоб быть русским, не достаточно ни грамматического знания русского языка, ни знания статистики, ни изучения письменных памятников. На таком основании многие немецкие профессора могли бы себя считать отличными римлянами или греками».33
Однако еще более отчетливо, чем в этом «теоретическом» отрывке, эстетическая, «отвлеченная», книжная подоснова тогдашнего «славянофильства» заявляет о себе в монологе Шишкова, воссозданного Аксаковым далее. Отнюдь не случайна уже его тема – комментарий к отдельным стихам из поэмы С. А. Ширинского-Шихматова, а как только мы слышим первые слова Шишкова, то сразу становится очевидно, что русскость, в его понимании, оказывается, в первую очередь, связана с отношением к литературе: «Я рад, что вы встретились и подружились с Казначеевым. Вы оба русские люди, будете вместе служить и ходить ко мне, я стану толковать с вами и что-нибудь читать, и хорошее и худое; худого больше, но есть и хорошее» (Аксаков II, 273). Итак, для Шишкова быть русским означало в первую очередь быть неравнодушным к русскому языку. В этом он оставался верным традиционным представлениям своей молодости о языке как основе национального самосознания, которые, по мнению А. В. Чичерина, позднее перенял и которыми руководствовался в своем творчестве Аксаков.34
Следующий за тем монолог Шишкова заслуживает особого рассмотрения. Надо сказать, что Аксаков редко в своих произведениях использует прямую речь героев. Нечасто встречаются у него диалоги, а развернутые монологи, среди всего им написанного, – вообще наперечет. Но даже если не брать в расчет эту особенность аксаковского стиля, монолог Шишкова играет в аксаковских воспоминаниях о нем особую роль, поскольку именно на него ложится специфичная функция: дать представление о «русском направлении» в том виде, которое оно имело в начале XIX века, и не просто охарактеризовать его как идейное течение, а осмыслить средствами художественной образности. Для этого Аксакову нужно было создать выпуклый образ, в котором слились бы воедино неповторимая личность Шишкова и его идеи, наглядно проиллюстрировать их взаимосвязь, или, как он с некоторой долей иронии пишет в сопутствующем монологу комментарии, дать их «образчик» (Аксаков II, 276).
Ставя перед собой задачу сделать эпизод более наглядным, Аксаков постепенно подводит нас к нему: от описания обстоятельств знакомства, внешности Шишкова и его манеры общения. Сформировав внешнее впечатление, он плавно переходит к сути разговора – от внешней манеры речевого поведения своего героя к содержанию беседы. Так возникает искомое ощущение единства личности Шишкова и его взглядов. Аксаков старается передать читателю эмоциональное впечатление, которое он сам пережил в ту памятную для него встречу. И чтобы подтвердить объективность своего рассказа, с одной стороны, а с другой – формально выделить его на фоне общего повествования, Аксаков заканчивает эпизод сноской, в которой, уже с позиции внешнего наблюдателя и объективного критика, комментирует монолог Шишкова. Стремление сформировать яркий зрительный образ, портрет персонажа, и сознательное обособление эпизода переключает регистр рассказа из повествовательного в описательный – в портрет героя.
Выше мы отмечали, что особенностью иллюстративных эпизодов, экфрасисов в отношении стилистики является описательность, а в отношении композиции – их некоторая обособленность на фоне общего повествования. Эта обособленность достигается не только за счет перехода от повествования к описанию, сменой авторской точки зрения, замедлением сюжетного времени, отступлением от основной линии рассказа и иными способами. В частности, этой же цели служит и использование Аксаковым вышеупомянутой сноски, которая, если отвлечься от ее содержания, несет на себе специфичную, формальную задачу: она создает эффект «остранения», обособляет эпизод на фоне остального повествования. Подобные способы композиционного обособления используются для выделения и других вставных иллюстративных эпизодов: зарисовки, диалога, анекдота. Это во многом роднит подобные элементы текста, особенно при общности их прагматической задачи – дать яркое, наглядное изображение личности, предмета или пейзажа средствами художественной образности. Монолог Шишкова, который мы рассматриваем, как раз и является таким вставным, иллюстративным элементом в воспоминаниях о нем Аксакова.
Обособление иллюстрации может достигаться не только средствами композиции, но и стилистики. Если присмотреться к рассказу Аксакова, то в нем можно обнаружить остранение и даже некоторую иронию по отношению к маленьким хитростям Шишкова и к собственной юношеской наивности, но основным приемом, стилистически выделяющим монолог Шишкова на фоне всего произведения, является стилизация его речи.
Речь героя – одна из основных составляющих его образа. В мемуарной прозе, в качестве персонажей имеющей дело лишь с реально существовавшими лицами, основной, если не единственной, формой индивидуализации героя через речь является стилизация. На фоне монологичного повествования, свойственного этому жанру, ярко окрашенная, стилизованная речь персонажа становится замечательным средством портретизации героя, невольно обращающим на себя читательское внимание. Правда, использоваться этот прием может лишь в отношении лиц с заметными особенностями речевого поведения. Проблема в том, что далеко не всегда человек, о котором написаны воспоминания, в жизни обладал речью достаточно яркой, чтобы быть стилизованной пишущим о нем мемуаристом. Вот чем, в первую очередь, объясняется нечастое использование этого приема в этом жанре, даже такими авторами, как Аксаков.
Традиционным способом стилизации речи персонажа, наиболее распространенным в художественной литературе, является имитация характерных внешних особенностей речевой манеры, с опорой на разнообразные отклонения в ней от общепринятой нормы. Именно такой прием использует Аксаков в своих «Литературных и театральных воспоминаниях» при описании кн. А. А. Шаховского. Речь князя, полная разнообразных недостатков, настолько идеально подходила для этого, что Аксаков не только попытался письменно отобразить ее особенности, попутно пояснил как суть этого художественного приема, а также и возникающие при его применении трудности: «Шаховского трудно передразнить, еще труднее передать на бумаге его смешное бормотанье, какое-то особенное пришепетыванье, его горячность и скороговорку, которая иногда доходила до такого глотанья слов, что нельзя было понять, что он говорит, а потому я буду приводить его разговоры обыкновенным образом, кроме некоторых слов, что, конечно, моим читателям, не знавшим лично кн. Шаховского, не передаст его речи. – Только что я вышел за дверь (сказывал Брянский), кн. Шаховской вскочил с кресел, хватил себя ладонью по лысине (это был его обыкновенный прием, выражение вспышки), забормотал, затрещал и запищал своим в высшей степени фальшивым голосом: «Это что еще? дуляк Кокоскин переложил глупейшим образом на лусские нравы несчастного Мольера и прислал к нам из Москвы какого-то дуляка ставить свой перевод, как будто бы я без него не умел этого сделать! Этот Кокоскин, этот накрахмаленный галстук, который не умеет разинуть рта по-человечески, хочет учить меня и всех петербургских артистов, через своего длуга, как надобно разыграть Мольерову пиесу! Да из этого надобно сделать водевиль в следующий бенефис Марьи Ивановны. Хорошо! Мы позовем его поверенного на лепетицию. Разумеется, его никто не будет слушать; зато он нас посмешит»» (Аксаков III, 32).
В отличие от приведенного монолога князя Шаховского, монолог Шишкова – характерный пример аксаковской стилизации: стилизации другого, совершенно особого рода. С точки зрения языковых средств, из уст Шишкова мы слышим ту же самую аксаковскую монологическую речь, со всеми ее не раз уже перечисленными «номинативными» особенностями, отбором лексики, построением фразы. И все же, несмотря на всю узнаваемость стилистики, монолог принадлежит именно Шишкову. Добивается же этого Аксаков через введение типичной для своего героя тематики. Не случайно в центр монолога он поставил рассуждения о значении слов церковнославянского происхождения, об их красоте и глубине смысла. Дело не в том, что Аксаков, благодаря своей отличной памяти, отчетливо запомнил слова Шишкова, и не в том, что в его распоряжении был конспект подобной их беседы, на который он ссылается в примечании.35 Даже если бы он плохо помнил подробности этой их первой встречи; даже, если бы никогда не вел записи своих бесед с Шишковым, все равно в его распоряжении был бы незаменимый источник для стилизации речи своего героя – произведения самого Шишкова.
Стиль произведений Шишкова настолько характерен, что даже те, кто лично с ним не был знаком, но хотя бы раз держал в руках любую из его книг, не мог усомниться в достоверности аксаковского рассказа. Все в монологе узнаваемо: и тематика, и логика, и словесная форма, в которую облечены рассуждения – все это типично шишковское, передающее если не дословное содержание его произведений, то их дух. Сравним кусочек из Аксаковских воспоминаний с типичным отрывком из книги самого Шишкова: к примеру, в своем трактате «Разговоры о Словесности между двумя лицами Аз и Буки», рассуждая об истоках литературного русского языка, он дает такое объяснение причин происходивших в нем изменений: «Навык один виновник тому и судия. Он часто, при всем своем невежестве, одерживает верх над разумом. Мы ныне говорим: я пленился тобою, а в старину говаривали: я уязвился тобою. Навык, не взирая на странность мысли: взять самого себя в плен приучил нас к первому выражению; а разум находит во втором выражении мысль лучше и чище».36 А вот отрывок из очерка Аксакова, где Шишков рассуждает о языке современных поэтов: «Это все красоты первоклассные, или заимствованные из книг священного писания, или составленные по их духу. Да покажите мне, много ли таких красот найдется у наших знаменитых писателей. А вот попадется слово, которого значения не поймут, в стихе: Богатств дражайшие дары – и станут смеяться: дражайший дар, как уморительно смешно! а ничего смешного нет. Дражайший значит драгоценнейший, это превосходная степень, а потому стих: Богатств дражайшие дары – значит дары, которые драгоценнее богатств» (Аксаков II, 275). Мы выбрали, по сути дела, случайные отрывки, но видим что, и манера речи, и полемические приемы, и общий тон речи практически идентичны.
Хотелось привести еще один довод в пользу нашей версии об источнике стилизации монолога Шишкова, который можно считать признанием самого Аксакова – рассказ его о том, как он готовил роль Старорусина для домашнего спектакля в доме Шишкова: «Должно сказать, что дяде было очень приятно слышать свои мысли с театральных подмостков даже в своей небольшой зале, и мы с его племянником, Казначеевым, заметя это, приготовили сюрприз ему самому: мы вставили в роль Старорусина много славянофильских задушевных мыслей и убеждений Шишкова, выбрав их из его печатных и рукописных сочинений и даже из разговоров» (Аксаков II, 288). Полагаем, что именно к такому же художественному приему, «легальному плагиату» прибег Аксаков и при написании разобранного нами выше монолога Шишкова.
3. Проблема «звучащего» слова в языке прозы Аксакова.
Выше уже отмечалось, что специфичной чертой аксаковской прозы является довольно редкое использование прямой речи. Нечасто там встречаются диалоги, а монологи, тем более объемом в несколько страниц, – явление исключительное, а значит, заслуживают особого внимания. Как правило, Аксаков всегда композиционно выделяет вводными словами, или как-то иначе особо предуведомляет их появление в тексте. Конечно, подобная ситуация проистекает из внутренних закономерностей жанра, в котором он писал. Развернутые монологи героя редко встречается в качестве компонента композиции в мемуарных произведениях, поскольку требуют дополнительной внешней мотивировки их присутствия в тексте.
Авторская позиция мемуариста-биографа по определению должна быть субъективно внутренне целостна, что ставит его в очень узкие рамки. Он должен создать художественный образ личности, о которой рассказывает, тщательно избегая таких приемов, которые могут поставить под сомнение достоверность его рассказа. С точки зрения читателя, вполне закономерен вопрос: как автор может помнить, например, подробности конкретного разговора со своим героем, произошедшего несколько десятилетий назад? В свое время именно вопрос о достоверности пересказа диалогов стал камнем преткновения для критики и читателей даже в таком классическом произведении, как «Разговоры с Гете» Эккермана. Лишь ссылки на феноменальную память автора, краткий промежуток времени между самой беседой и ее записью и, наконец, на само наличие этих промежуточных стенограмм, помогли тогда Эккерману преодолеть естественное недоверие публики. Аксаков ясно сознавал возможность появления у читателя сомнений, и, желая упредить всякие недоумения, сопроводил свой монолог Шишкова уже упомянутым комментарием с упоминанием существовавшего в его распоряжении конспекта беседы (Аксаков II, 276). Более того: в другом своем очерке: «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» – он вновь, предуведомляя развернутый рассказ о жизни главного героя, использует практически дословно ту же аргументацию: «Припоминая все рассказы Шушерина об его жизни и театральном поприще, слышанные мною в разное время, я соединю их в одно целое и расскажу, по большей части собственными его выражениями и словами, которые врезались в моей памяти и даже некогда были мною записаны. К сожалению, все мои тогдашние записки давно мною утрачены, потому что я не придавал им никакого значения. Разумеется, я многое забыл, и потеря эта теперь для меня невознаградима» (Аксаков II, 368). Убедить читателя в достоверности рассказываемого – важнейшая задача писателя-мемуариста. За свою историю развития мемуарно-биографический жанр выработал целый ряд необходимых для этого художественных средств. Однако, заимствуя по мере необходимости приемы из этого общего арсенала, каждый автор создает и свои собственные, изначально для этой цели не предназначенные.
Одной из важнейших особенностей аксаковского творчества является его интерес к драматическому актерскому искусству. Нет, наверное, ни одного мемуарно-биографического произведения начиная с «Детских лет Багрова-внука», где этот мотив не занимал бы одно из важнейших меС. Т. Эпизоды, в которых он возникает, как правило, отличает особая эмоциональная насыщенность, и в этом отношении обычно они являются кульминационными в композиции произведения. Это не только воспоминания о театральных деятелях той эпохи, с развернутым анализом особенностей их творческой манеры, но и рассказы о драматических представлениях, в которых он участвовал, о собственных упражнениях в актерском мастерстве и декламации. Эти рассказы об упражнениях в декламации и о свойственном Аксакову таланте к пародированию, кроме того, что они составляли непосредственный материал личных воспоминаний, служили формированию в образе автора черт, которые подспудно должны были бы настроить читателей на доверие ко всему тому, о чем он рассказывал. По определению, человек, с детства упражнявший память заучиванием длинных театральных ролей и более внимательно, с профессиональной точки зрения, наблюдавший поведение своих героев, должен был лучше помнить те детали, на которые обычный человек в повседневном общении, может быть, и не обратил бы внимания. Не случайно В. В. Виноградов, размышляя о психологических причинах появления сказа как художественного приема, прослеживает внутреннюю связь актерства с образом рассказчика: «Рассказчик – речевое порождение автора, и образ рассказчика (который выдает себя за «автора») в сказе – это форма литературного артистизма автора. Образ автора усматривается в нем как образ актера в творимом им сценическом образе».37 В «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове» также есть обширный эпизод о представлении пьесы в домашнем театре, дающий устами Аксакова косвенное подтверждение этого теоретического положения В. В. Виноградова: «Надо признаться в непростительной и нелепой дерзости, на которую подбили меня советы других и на которую решился я чуть ли не с согласия Дарьи Алексевны: играя свою роль, я подражал несколько выговору, походке и вообще манерам Александра Семеныча – одним словом, я передразнивал его. Это было замечено многими гостями и заставило их смеяться; но, разумеется, дядя ничего не заметил. Тетка сказала, однако, после спектакля в услышание всем: «Сергей Тимофеич так любит моего мужа, что даже походил на него в роли Старорусина». Без всякого самолюбия я скажу, что моя игра на театре слишком резко отличалась от игры других. Несмотря на молодость, я уже был опытный актер: я с пятнадцати лет постоянно изучал и разыгрывал разные роли если не на сцене, не перед зрителями, то у себя в комнате, перед самим собою; в настоящее же время в этом страстно любимом занятии руководствовал мною, как я уже сказал, знаменитый тогда актер Яков Емельяныч Шушерин. Я имел решительный сценический талант и теперь даже думаю, что театр был моим настоящим призванием» (Аксаков II, 286—287). Очень многое в писательском мастерстве Аксакова определялось наличием у него актерского таланта и опыта театральной жизни.
Интерес Аксакова к сценической речи, к декламации – не только часть личной биографии и излюбленный, регулярно встречающийся почти во всех его мемуарных произведениях мотив, но и фактор, оказывавший влияние на все его творчество. Отмеченные ранее такие важные особенности стилистики Аксакова, как простота и ясность, тесно связаны с его представлениями о правилах и нормах сценической речи, сформировавшихся у него еще в период активного участия в театральной жизни, деятельности его в качестве театрального критика.38
С момента своего зарождения как формы организации ораторской речи риторика была неразрывно связана со стихией устного слова. Это свое врожденное свойство она сохраняла на протяжении веков, даже став исключительно книжным по своей природе явлением. Известно, что навык «чтения про себя» – феномен, возникший относительно недавно: еще несколько столетий назад чтение подразумевало произнесение написанного вслух. Распад морально-риторической системы окончательно эмансипировал звучание слова от его написания, что не могло не сказаться на смене отношения авторов к стихии устной речи. Исследуя историю стилистики русской литературы нового времени, в том числе ее связи с уходящей в прошлое риторической традицией, В. В. Виноградов выделяет как два особых типа, формы литературной речи «рассчитанной на иллюзию произнесения» и абстрагированной от семантики устного говорения: «Язык литературно-художественного произведения может быть и непосредственно ориентирован на понимание его в плане звучащей речи – ораторской, сценической, декламации или рассказывания. Конечно, композиционные формы этих «исполнительских», «артистических» видов словесного искусства видоизменяются, будучи транспонированы в иную сферу выражения, в литературную систему функционального обоснования. <…> В этом разграничении форм литературной речи, рассчитанной на иллюзию произношения – с моторным сопровождением, – и речи «идеальной», книжной, абстрагированной от семантики устного говорения, кроются нити нового раздела типов языковой организации художественных произведений».39 В нашей работе мы пристальнее присмотримся к первому из выделенных В. В. Виноградовым типов произведений, которые изначально создаются с учетом того, что их будут читать вслух, декламировать, поскольку именно к ним можно отнести большую часть из написанного Аксаковым. Этим они отличаются от воспоминаний, к примеру, С. П. Жихарева и М. А. Корфа возникших на основе ранее существовавших дневниковых записей и «генетически» связанных с письменным словом.
Ориентация на устную речь не обязательно заявляет о себе в ярких формах сказа или риторически возвышенного ораторского стиля. Чаще всего «они входят в литературно-художественную конструкцию лишь отдельными своими сторонами, абстрагированными от реального исполнения. Эти элементы их раскрываются в «намеках» в «сигналах» как формах своеобразной литературной семантики, соотнесенной с семантикой соответствующих видов устной речевой организации. Формы «говорения», формы «устной словесности» обычно не раскрыты полностью в сигналах литературного текста. Они лишь интуитивно постигаются, усматриваются в формах литературной сигнализации, как бы «сквозят» в них. Но проекция их в план звучания неизменно сохраняется и тем определяет своеобразия семантики речевого восприятия».40 В своих мемуарах Аксаков регулярно использует лексику, связанную с говорением. Приведем лишь один пример из очерка «Встреча с мартинистами»: «Я пощажу моих читателей от скуки выслушать весь мой спор с Рубановским. Но для образчика расскажу только некоторые мои вопросы, недоуменья и объяснения старого мартиниста» (Аксаков II, 249—250). И это не было субъективным восприятием Аксакова: показательно, что и другими людьми аксаковская проза воспринималась как отголосок его устной речи. Аксаков был замечательный чтец и рассказчик, и, судя по всему, свойственная ему манера устного чтения – кроме того, что была очень характерной – внутренне была тесно связана с его писательским стилем. Напрямую удостовериться в этом, конечно, уже невозможно, но можно довериться свидетелям – например, А. С. Хомякову: «С. Т. Аксаков живет в своих произведениях: говорит ли он о светлом дне, вы чувствуете радостную улыбку, отвечающую улыбающейся природе; <…> А между тем он этого не говорит, но он сам весь в своем слове, весь со своей крайней впечатлительностью и правдивою энергиею. Вы слышите речь старца много пережившего; <…> Вы как будто слышите этот твердый, полнозвучный, мужественный голос, который так памятен его друзьям; видите этот почтенный образ мужественного старца, согнутого, но не сломленного годами и болезнями. Вы не можете знать его творений, не узнав в то же время его самого; не можете любить их, не полюбив его».41
В семье Аксаковых чтение литературы вслух было обыденной практикой, причем речь идет не только о семейном чтении уже опубликованных произведений. Дом Аксаковых был местом притяжения для большого числа русских писателей, многие из них специально приезжали прочитать свои произведения с целью услышать критические замечания. Семья Аксаковых не была в этом отношении чем-то особенным: в XIX столетии «устная обкатка» предшествовавшая печатной публикации, была широко распространена. Произведения С. Т. Аксакова прежде появления в печати тоже читались в кругу семьи и друзей. В дневнике В. С. Аксаковой есть упоминание о подобном чтении «Семейной хроники» Константином Аксаковым Ю. Ф. Самарину42 и даже разбираемых нами «Воспоминаний об Александре Семеновиче Шишкове».43 В этом отношении Аксаковы как семья, как круг единомышленников являли собой поразительный пример общей закономерности, которую Ю. М. Лотман сформулировал так: «В тех же коллективах, в которых господствовала ориентация на интимность отношений, тесную кружковую замкнутость, обособленность избранных и где ритуализованность поведения, устная речь приобретала авторитетность и письменная моделировалась по ее образцу».44 Произведения Аксакова предоставляют нам широкое поле для наблюдений за этим процессом. Если выше в нашей работе мы рассматривали преимущественно то, как иные жанры литературы и письменной речи влияли на поэтику и язык прозы С. Т. Аксакова, то теперь мы видим, что влияние устной речи на его произведения не менее значительно. Тем более, был еще один важный фактор, обусловивший это влияние: в последние годы жизни состояние здоровья С. Т. Аксакова значительно ухудшилось, он почти полностью потерял зрение, и почти все созданное им в эти годы он не писал собственноручно, а диктовал дочери – Вере Сергеевне. Таким образом, практически все произведения задолго до публикации прошли через устную апробацию – через своеобразный фильтр звучащего слова.
Наконец, в уже не раз цитированной переписке с Тургеневым есть замечательное свидетельство самого Аксакова о том, какое значение он придавал такому фактору, как устное проговаривание, звуковой образ художественного текста. Он, обсуждая с Тургеневым его повесть «Постоялый двор», делает такое замечание: «Грустно мне, старому, без голоса и чистоты произношения, что я не могу прочесть вашего рассказа вслух самому себе: тогда бы только оказалась его настоящая красота и сила».45
Многие произведения мемуарно-биографического жанра связаны со звучащим словом, так сказать, генетически. Дело в том, что часто они и рождаются как фиксация устных бесед с друзьями, рассказов о пережитом. Показательна в этом отношении история появления и осмысления мемуарного наследия И. И. Дмитриева. Он был замечательным рассказчиком: П. А. Вяземский отмечал в своих записных книжках, что «каждые два часа беседы с ним могут дать материалов на том записок».46 Друзья, ценившие этот его дар, долго уговаривали его начать писать мемуары. Так, еще в 1818 году В. А. Жуковский обращался к нему в своем письме: «Не забудьте, что вы обещали писать свои записки. Здесь мы все говорим, что вам их писать надобно и писать так, как вы говорите. Никто не сравнится с вами в искусстве рассказывать, и не знаю, много ли найдется таких, которые бы так умели замечать и умели столько заметить в том, что у всех перед глазами».47 В этом отрывке особенно примечательна просьба «писать так, как вы говорите», свидетельствующая о том, что устные рассказы Дмитриева ценились слушателями не только за их содержание, но и за индивидуальную манеру их исполнения, за стиль, поэтому неудивительно их недовольство получившимся результатом. Причину этого разочарования мы можем понять из слов П. А. Вяземского, прочитавшего их задолго до публикации – в 1823 году: «Записки Дмитриева содержат много любопытного и на неурожае нашем питательны; но жаль, что он пишет их в мундире. Понастоящему должно приложить бы к ним словесные прибавления, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особенно же в избранном кругу».48 Подобно И. И. Дмитриеву, Аксаков тоже был замечательным рассказчиком, и немалая часть того, что мы можем прочесть в его мемуарных и охотничьих книгах, изначально существовала в форме устных историй. Так же, как и Дмитриева, друзья, в том числе Гоголь, уговаривали Аксакова записать эти свои рассказы. В своих воспоминаниях Ю. Ф. Самарин описывает, какое впечатление производили на Гоголя рассказы Аксакова: «Я помню с каким напряженным вниманием, уставив на него глаза, Гоголь по целым вечерам вслушивался в рассказы Сергея Тимофеевича о заволжской природе и тамошней жизни. Он упивался ими, и на лице его видно было такое глубокое наслаждение, которого он и сам не в состоянии был бы выразить словами, Гоголь пристал к Сергею Тимофеевичу и потребовал от него, чтобы он взялся за перо и записал свои воспоминания. Сначала Сергей Тимофеевич об этом и слышать не хотел, даже обижался; потом мало-помалу Гоголю удалось его раззадорить».49
История с написанием И. Дмитриевым своих мемуаров показывает, что наличие таланта устного рассказчика и обширный личный опыт далеко не всегда гарантируют художественные достоинства мемуарного текста – в этом вопросе гораздо важнее оказываются авторская мотивация и общий подход к работе над воспоминаниями. В первых строках своих воспоминаний И. Дмитриев так пишет о причинах, побудивших его к их написанию: «Может быть, со временем записки мои будут известны; может быть, некоторые из читателей моих обвинят меня в том, что я, скудный в делах и мыслях, по самолюбию моему мечтал равняться с значительными людьми и подобно им продлить о себе память. <…> Теперь уже и по самой необходимости стал еще более домоседом: ноги отказываются служить мне, глаза мои тоже; старые связи перевелись; новые заводить трудно и не прочно. Пришлось искать занятий в самом себе и доживать воспоминанием».50 Насколько мы видим из этого зачина, даже принимая во внимания его условный, этикетный характер, И. Дмитриевым51, руководило, прежде всего, желание сохранить для потомков память о тех событиях, свидетелем которых он был. В свою очередь, Аксаков, как мы уже не раз говорили, относился к написанию своих мемуарно-автобиографических произведений как к литературному творчеству.
Можно сказать, что условный водораздел между чистой мемуаристикой и беллетристикой того времени лежал в отношении к стилистике повествования. Для русской мемуаристики XVIII – первой половины XIX веков характерны были преобладающий интерес содержательной стороне воспоминаний в сочетании с «безразличием» к языку: иногда естественным, а иногда – и намеренным. Появление в мемуарном тексте каких бы то ни было стилистических или иных приемов, которые могли бы вызвать ассоциации с художественной литературой, могло создать у читателя ощущение искусственности и подорвать в его сознании доверие к рассказу. Иногда уступки читательским ожиданиям носили самый неожиданный характер. К примеру, С. П. Жихарев, был одним из немногих авторов, сознательно относившимся к написанию своих мемуаров как к литературной деятельности. Комментируя описанное им первомайское гулянье в Сокольниках, Б. Эйхенбаум отмечает: «Такая запись (а подобных ей много) не могла явиться на свет без предварительной черновой работы, без изучения литературных образцов и, главное, без отношения к своему дневнику если не прямо как к литературному произведению, то, во всяком случае, как к собранию литературных заготовок, набросков и упражнений. Жихарев, очевидно, ставил перед собою литературные задачи – как в процессе писания этих дневников-писем, так тем более при подготовке их к печати».52 Однако, готовя свои записки к публикации, он вынужден был даже прибегнуть к мистификации: упомянуть в предисловии о якобы предшествовавшей литературной обработке его записей со стороны покойного родственника53, по мнению Б. М. Эйхенбаума: «по видимому для того, чтобы оправдать или мотивировать чрезмерную литературность «Записок»».54
Книги Аксакова в этом отношении ознаменовали переломный момент в развитии жанра, момент начала активного взаимодействия мемуаристики с художественной литературой своего времени. Если на «Записках» Жихарева лежит, по выражению Эйхенбаума, «печать литературности»55, то произведения Аксакова, не порывая связи, с предшествующей традицией мемуарного жанра, в то же время, являются художественной литературой в полном смысле этого слова. Выше мы показали, что в них можно обнаружить целый ряд элементов поэтики, прежде почти исключительно свойственных лишь беллетристике, роману: сюжетность, специфичные способы построения образа автора и героев. Наряду с другими приемами, беллетристика широко использует устную речь. Стремясь к максимальной художественности, писатель-беллетрист не может пренебрегать таким замечательным средством, как фактурность, образность звучащей речи. Сознательное отношение к использованию устной речи – в частности, к стилизации ее как к художественному приему – является характерной чертой творческого метода Аксакова и дополнительным фактором, свидетельствующим о присущей ей тенденции беллетризации мемуаристики.
4. Анекдот и проблема национального характера в «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове».
Наряду с прямым экфрастичным описанием, другим приемом портретизации персонажа, особенно характерным для мемуарной литературы XVIII – XIX веков, был анекдот. Литературный анекдот, в силу особенностей своего жанра, по сути дела, был обречен на использование в качестве средства создания динамичного, лаконичного эпизода, характеризующего персонаж. Использование элементов поэтики анекдота помогает формированию в читательском восприятии образа главного героя. Не случайно жанр этот сыграл значительную роль в формировании мемуарной прозы вообще и русской мемуаристики в частности.56 П. А. Вяземский, отмечая насущную потребность в «живой литературе фактов», включал в это понятие и мемуары, и исторический анекдот, считая его важнейшим источником, влияющим на формирование литературного языка в целом: «Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок, за несколько Несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история. Наш язык, может быть, не был бы столь обработан, стих наш столь звучен; но тогда была бы у нас не одна изящная, но зато и голословная, а была бы живая литература фактов, со всеми своими богатыми последствиями».57 И как ни странно, прямым откликом на этот призыв стали произведения, написанные когда-то бывшим его идейным противником С. Т. Аксаковым58, все творчество которого было пронизано стремлением создать летопись «событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история», ввести в мемуарную литературу нового «не великого героя, не громкую личность» и сделать это предельно скромными художественными средствами. Особое место этих средств занимал литературный анекдот. «Воспоминания об Александре Семеновиче Шишкове» служат замечательным образцом использования этого устного жанра в мемуарной прозе.
Надо сказать, что А. Шишков был одной из самых анекдотичных фигур своего времени. Многочисленные курьезные истории из его жизни приводят в своих записных книжках П. А. Вяземский, С. П. Жихарев, М. А. Дмитриев и другие мемуаристы. Но не только в восприятии русских людей Шишков представал как личность, наделенная комизмом и оригинальностью поведения. Примечательно в этом отношении свидетельство немецкого писателя Эрнста Морица Арндта: «Еще занял у меня время и силы один старый русский адмирал... Звали его адмирал Шишков, так приблизительно выговаривалось имя. Это был большой оригинал, настоящий русский, я думаю, высшей пробы. Он обладал главными чертами своего народа, веселостью, склонностью к удовольствиям, и неописуемым проворством и живостью во всех членах и мимике. Положительно, было в нем что-то от Суворова. Семидесятипятилетний старик, с совершенно особенным лицом и ироничными, при этом весьма добрыми чертами, находящимися в таком беспрерывном изменении, какого я не встречал ни у кого другого. У него была привычка, вероятно совершенно русская, обозначать все, что на ваших глазах приходило ему в голову, не с помощью слов, но через пантомиму».59 В контексте нашей работы, безусловно, интересно сравнение Шишкова с Суворовым, который также был персонажем многочисленных анекдотов. Но обратим внимание на другую деталь – эпитеты, которые Арндт применил в отношении Шишкова: «настоящий русский, высшей пробы», «обладающий главными чертами своего народа». Их появление отнюдь не случайно: национализм, проблема национального характера в эпоху романтизма занимали совершенно особое место.
В письмах Аксакова к Тургеневу, наряду с понятиями «мера», «простота», «ясность», неоднократно встречается еще одна важнейшая для понимания его эстетики категория – «русское»: понятие, наверное, самое сложное для истолкования с точки зрения современной литературной теории60. Вернемся к тому же письму Аксакова, где он дает высокую оценку «Постоялому двору» не только за стиль повести, но и за выбор героев и сюжета: «Это – русские люди, русская драма жизни, некрасивая по внешности, но потрясающая душу, изображенная русским талантом».61 Обратим внимание на эти характеристики. Главное достоинство повести Аксаков видит не столько в описании драматичных жизненных событий простым лаконичным языком, без избитых художественных приемов, не столько отсутствие акцента на описаниях жестокости жизни, но в их «русскости». Дело в том, что Аксаков очень часто употребляет понятие «русскость» не в свойственном современности идеологическом или этническом смысле а скорее, в эстетическом. Именно в таком контексте это понятие часто встречается в его оценках литературных произведений, особенно когда он пишет о типах персонажей.
Младшее поколение русских славянофилов в своих философских исканиях развивавших романтические представления о нации, положило немало усилий на то, чтобы выявить в понятии «русское» эстетическую составляющую. Так, К. С. Аксаков в целом ряде своих статей акцентирует внимание на необходимости выработать «русское народное воззрение».62 На его основе должна как была быть выстроена национальная литература, так и утвердиться «самостоятельное» значение русского народа, прекратиться период подражания и ученичества у Запада. По мнению К. С. Аксакова и его единомышленников, русская литература должна была бы основываться на совершенно особых «народных началах», но представления об этих началах у славянофилов были все же довольно неопределенные. Формулировались они, главным образом, как отрицание некоторых черт современной литературы. Единственным положительным по форме эстетическим требованием был призыв отображать типичные черты русских людей и русской жизни. В этом отношении замечания С. Т. Аксакова из его переписки с Тургеневым во многом близки славянофильскому подходу к литературе в то время.
Как ни странно, анекдотические истории о чудаках оказываются одним из наиболее распространенных способов раскрытия темы национального характера в литературе. Примеры можно найти в любой литературе: Тартарен из Тараскона, Бай Ганьо и солдат Швейк. В русской литературе за историю ее существования, благодаря творчеству многих писателей – от Лескова до Шукшина, сформировалась целая галерея образов чудаков. Образ Шишкова, созданный в рассматриваемом нами очерке Аксаковым, примыкает к этой традиции. Избрав Шишкова в качестве персонажа в контексте осмысления понятия «русскости», Аксаков неожиданно нащупал ракурс рассмотрения проблемы, оказавшейся в литературно-исторической перспективе самым плодотворным. Сложно, однако, сказать, осознавал ли он это, но что интуитивно чувствовал –несомненно.
То, что использование литературного анекдота оказалось очень продуктивным приемом, в тех случаях, когда в авторскую задачу входило показать особенности национального характера и образа жизни, связано с его базовыми жанровыми чертами. Недаром Е. Курганов указывает на прикрепленность к конкретному историческому времени и быту как на основную особенность литературного анекдота, отличающую его от фольклорного, где бродячий сюжет может быть воспроизведен в любых исторических и национально-бытовых условиях.63 В силу этого он, оказываясь внутри другого жанра, автоматически становится замечательным средством, выявляющим значительное в заурядном, типичное в повседневном, незаменимым там, где автору требуется отстранение от обыденности. Более того: «общая установка жанра заключается в том, что он стимулирует историческое или логико-психологическое любопытство, воскрешая быт, нравы эпохи, помогая постигнуть глубинные закономерности национального бытия. <…> Кроме того, анекдот вскрывает в целом ряде случаев тенденции, которые складываются из напластований различных эпох; он непредвзято, резко, точно демонстрирует те или иные особенности природы человеческой».64
Однако сам по себе анекдот не рождается с целью свидетельствовать о духе эпохи и национального характера. Эта его жанровая особенность приходит позднее, с течением времени; изначально же в центре анекдота стоит личность персонажа. По своей сути, литературный анекдот – жанр героецентричный: в центре его почти всегда стоит личность, причем личность, наделенная особыми, выделяющими ее на фоне окружающих чертами, чаще всего это чудак, оригинал. В XVII – XVIII веках европейская мемуаристика окончательно адаптировала анекдот к своим нуждам65, включила его как важнейший элемент в арсенал своих художественных средств: «Сенсимоновские портреты чудаков и оригиналов имеют свою литературную традицию и свою жанровую типологию. Они строятся на основе анекдота. В понимании XVII – XVIII веков, анекдот – это короткая занимательная история. Таков рассказ о маршале д'Эстре, всю жизнь покупавшем книги и ценные вещи, не только никогда ими не пользуясь, но даже не распаковывая. Он обещал значительное вознаграждение тому, кто разыщет для него бюст Юпитера Аммона – вещь, которую ему непременно хотелось приобрести; бюст же этот давно уже валялся в его собственных кладовых. В том же духе выдержаны рассказы Сен-Симона о рассеянном Бранка или о нестерпимо вежливом герцоге Куазлене».66 Романтизм по-новому осмыслил идею чудачества, неординарности поведения – именно эти необычные для других особенности характера или поведения героя впоследствии переосмысливаются как типичные черты национального характера, как закономерный результат влияния духа времени. Происходит своего рода эффект остранения; с течением времени появляется возможность взгляда со стороны, а странности поведения Шишкова, Шаховского и других деятелей того времени начинали восприниматься пусть как крайние, но закономерные черты эпохи, яркой ее иллюстрацией.
Анекдот – очень мобильный и гибкий жанр. Кроме разнообразных устных форм своего бытования, в письменной литературной своей ипостаси, он также способен видоизменяться, вступать во взаимодействие с другими литературными жанрами, обретая, с точки зрения прагматики функционирования, все новые черты. В различных популярных в свое время сборниках, анекдот существует в ситуации прямого репродуцирования. Он записан таким, каким был услышан, и он записан, прежде всего, для себя. Анекдот может нести отпечаток устной речи, как стенограмма, или быть дополнен ремаркой; упомянут как бы вскользь в контексте собственных размышлений, но в любом случае, он остается «вещью» – вернее, «текстом в себе». С остальными фрагментами антологии он связан лишь формально: через тему, героя, или, например, дату записи. Вот почему, будучи законченным произведением, анекдот не нуждается в редактировании, адаптации стилистики или каких-либо приемах, мотивирующих его появление в тексте: например, вводных словах. В подобных текстах автор редко заявляет о себе, или маскирует себя под скромную фигуру собирателя-популяризатора. Когда П. А. Вяземский писал в своем дневнике: «Отправлено через Подольск письмо к Кавериной с предложением отцу писать свои записки. Я всех вербую писать записки, биографии. Это наше дело: мы можем собирать одни материалы, а выводить результаты еще рано»67, – среди этих материалов, которые он предлагал собирать, как видно из его записных книжек, одно из важнейших мест отводилось анекдоту.
Мы уже говорили о специфичном для середины XIX столетия сближении науки с литературой. Многие писатели стали историками если не по профессии, то по призванию. Аксакову было свойственно самоощущение историка-дилетанта, понимавшего ценность устных рассказов о былом. Не считая себя профессионалом, не ставя перед собой задачу научной историографической работы, он старался сохранить на бумаге наиболее ценное из того, что ему довелось видеть самому и слышать от других. Мы уже цитировали концептуальное признание Аксакова о цели и методе своей работы, сказанное им в самом начале своих «Литературных и театральных воспоминаний». Кроме прочего, он там формулировал там задачи, которые ставил перед собой, приступая к их написанию: «Я нисколько не беру на себя обязанности библиографа или биографа, я не собираю сведений из устных и печатных, разбросанных по журналам и брошюркам: я стану рассказывать только то, что видел и слышал сам при моих встречах с разными литераторами. Моя цель – доставить материал для биографа» (Аксаков III, 5—6) Приведенное высказывание во многом перекликается с цитированным выше отрывком из записок П. А. Вяземского, но за внешним сходством их слов скрывается существенная разница. Высказывание Вяземского – это дневниковая запись, сделанная для себя. К тому же, как автор, он действительно ощущал себя беспристрастным собирателем устной дворянской культуры, что было замечательно показано Е. Кургановым в его монографии. В свою очередь, слова Аксакова – это условная форма зачина, предваряющая текст воспоминаний. В середине XIX века мемуаристика еще не стала равноправным жанром, и литературный этикет требовал от писателя-мемуариста занимать авторскую позицию с некоторым элементом самоуничижения, подобную в этом отношении авторской позиции средневекового летописца. Здесь снова мы видим парадоксальное пересечение тенденций восходящих одновременно и к риторическому прошлому мемуаристики и ее литературному настоящему.
Интерес к литературному анекдоту в русской литературе XIX века зарождался и развивался почти параллельно с интересом к мемуаристике, и можно сказать, отчасти стимулировал последний. Оба эти жанра воспринимались как тесно взаимосвязанные, и граница между ними иногда вообще не проводилась. Ярким примером такого отношения к ним могут служить уже упоминавшиеся «Мелочи из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева, созданные также по инициативе и при активном участии П. А. Вяземского. Подавляющее большинство эпизодов, вошедших, в эту книгу являются анекдотами, и формально все это произведение можно было бы отнести к жанру антологии. Однако есть нечто, что скрепляет их воедино, что позволяет говорить о записках М. А. Дмитриева как о целостном тексте – тексте мемуарном: это ярко выраженный образ автора. Стилистическое единство любого текста находится в прямой зависимости от наличия образа автора, поэтому позиция мемуариста-рассказчика, наделенного индивидуальными, неповторимыми чертами, в какой-то степени, роднит записки М. А. Дмитриева с мемуарной прозой С. Т. Аксакова. Правда, есть между ними и принципиальное отличие: книга Дмитриева при всех своих достоинствах, относится скорее к литературе документальной, в то время как воспоминания Аксакова – к художественной.
Беллетристика широко применяет анекдот как художественное средство. Известно немало классических произведений литературы и драматургии, от античности до наших дней, в которых анекдотическая коллизия ложилась в основу сюжета. В 30—40-е годы XIX века мода на анекдотический сюжет захватила русскую литературу, наложив заметный отпечаток на язык и мотивно-сюжетную структуру произведений многих авторов. Однако, в отличие от разного рода антологий, в повести и рассказе анекдот чаще всего репродуцируется опосредованно: в частности, он может появляться как один из эпизодов или как-то иначе встроен в повествование, но в любом случае, в отличие от антологии, он взаимодействует с сюжетом, в той или в иной степени встроен в него, подчинен задаче формирования образа героя. В своих мемуарно-автобиографических произведениях Аксаков, следуя этой традиции, не раз прибегал к использованию анекдота как элемента поэтики своих произведений. Речь идет не только о том, что героями его воспоминаний часто становились люди, к тому времени приобретшие устойчивую репутацию чудаков, анекдотичных персонажей: А. А. Шаховской, А. С. Шишков, Н. И. Ильин и другие. Аксаков использовал анекдот – а точнее, ключевую его жанровую особенность, «закон пуанты» – как средство остранения, обнажающее внутреннюю сущность явления или характер персонажа. В своей работе «Анекдот как жанр» Е. Курганов дает «закону пуанты» такое определение: «В анекдоте с первых же слов задается строго определенная эмоционально-психологическая направленность. И в финале она обязательно должна быть смещена, нарушена. Заключительная реплика принадлежит уже иному эмоционально-психологическому измерению. <…> Возникающая ситуация не диалога и есть эстетический нерв анекдота, то, ради чего, собственно, он и рассказывается. Главное тут заключается не в комизме, а в энергии удара, в столкновении разных конструктивных элементов, в сцеплении принципиально не совпадающих миропониманий».68 Аксаков в своих очерках применил этот же самый художественный прием, приспособив его к новому жанру – к мемуарам.
Особенностью многих литературных или исторических анекдотов о реальных лицах является то, что в них сталкиваются две ипостаси одного и того же человека, например: аристократ, государственный чиновник, известный писатель в каких-то своих бытовых проявлениях оказывается остроумцем, чудаком или даже глупцом. В наше время мы часто не знаем о контексте, в котором воспринималась современниками та или иная известная личность. Вот почему исторические анекдоты нуждаются хотя бы в кратком историко-бытовом комментарии: анекдоты об А. Л. Нарышкине обычно предуведомляются упоминанием о том, что он постоянно был в долгах как в шелках;; об А. Норове – что он потерял ногу на Бородинском поле. Иногда же мы сталкиваемся с аберрацией исторического зрения иного рода. А. С. Шишков сейчас для нас, прежде всего – архаист, основатель «Беседы», автор «Рассуждения о старом и новом слоге», а уже потом Министр просвещения и президент Российской академии наук. Мы находимся под впечатлением его образа, как раз и созданного Аксаковым, Вяземским, Жихаревым. Для современников же он – прежде всего, военный и государственный деятель, последний представитель Екатерининской эпохи. Недаром в уже цитированном нами эпизоде из воспоминаний Арндт сравнивает его с Суворовым, а на большинстве прижизненных портретов он неизменно предстает в мундире. Именно это восприятие современников задает эмоционально-психологическую подоснову, с которой сталкиваются истории о литературных занятиях и языковых пристрастиях адмирала, формируя пуанту для большинства анекдотов о нем: «Шишков был и не умный человек, и не автор с дарованием, но человек с постоянной волей, с мыслью, idée fixe, род литературного Лафайета, не герой двух миров, но герой двух слогов старого и нового; кричал, писал всегда об одном; словом, имел личность свою и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире. А у нас люди эти редки, и потому Шишков у нас все-таки историческое лицо. Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов, но между тем большинство, народ, Россия, читали их с восторгом и умилением, и теперь многие восхищаются их красноречием; следовательно, они были кстати...».69 Эта характеристика, данная ему П. А. Вяземским, исключительно точно характеризует две ипостаси личности Шишкова, на столкновении которых и формируется коллизия, пуанта анекдотов о нем.
Однако если мы приглядимся к образу Шишкова, созданному Аксаковым, то обнаружим существенное отличие его от только что описанного: под его пером он предстает пред нами, прежде всего как основатель и духовный лидер «славянского» направления. Аксаков сознательно выносит за скобки его адмиральство и государственную службу – лишь несколько раз упоминая об этих аспектах его жизни и деятельности. Основная коллизия анекдотов, отобранных им для своего очерка, строится не на противоположении в герое «двух эпох и двух слогов старого и нового», а на противоположении человека общественного и частного; духовного отца литературно-общественного движения и отца семейства, мыслителя и чудака. Если сравнить двух авторов, Вяземского и Аксакова, то такой тип историй о Шишкове, которые мы находим у первого, ближе всего к анекдотам: к примеру, о Министре просвещения, графе С. С. Уварове; в свою очередь, аксаковские анекдоты типологически родственны бытовым, чудаческим анекдотам из жизни И. А. Крылова – в этом вновь заявила о себе базовая черта его творчества, обостренный интерес к маленьким, обыденным, человеческим чертам в крупной исторической личности. В итоге, благодаря столкновению с расхожими представлениями об «адмирале» Шишкове; столкновению, акцентированному за счет анекдотической пуанты, в образе, созданном Аксаковым, заявляет о себе скрытый сюжет рассматриваемого нами очерка – проблема взаимного непонимания искреннего, честного, принципиального человека и общества.
5. Функции анекдота в «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове»
Уникальное место анекдота среди родственных ему жанров определяется тем, что, перейдя из фольклора в литературу, ему удалось сохранить связь со стихией устной речи. Как показал в своих исследованиях Е. Курганов, в то время как бытовая сказка и басня не смогли преодолеть свою фольклорную обособленность и выпали из речи, широкого устного бытовая: «Анекдот же, включаясь в письменные литературные тексты, прежде всего, продолжал оставаться устным. Он свято берег свою жанровую честь и в итоге остался центральным устным речевым жанром».70 Мы уже упоминали о том, что важнейшей особенностью языка аксаковских произведений является ориентация на иллюзию произнесения. Активное использование им анекдота, устного речевого жанра в этом отношении является вполне закономерным. С точки же зрения упоминавшегося выше, предложенного В. В. Виноградовым деления литературных стилей, анекдот – так же, как и монолог – жанр, ориентированный на устную речь, на проговаривание текста. Более того: анекдот так же, по сути своей, монологичен, и хотя он может быть разыгран в лицах как комедийная сценка, все-таки по своей внутренней жанровой сути он рассчитан на устное исполнение одним рассказчиком. Аксаков, несомненно, ощущал внутреннюю связь актерского искусства с искусством рассказывания анекдота. В «Литературных и театральных воспоминаниях», предваряя анекдотическую историю из жизни кн. А. А. Шаховского, он так пишет об этом: «Можно было бы рассказать множество истинных происшествий в доказательство справедливости моих слов; но эти анекдоты потеряют много в рассказе, потому что никакое точное описание не может дать настоящего понятия о личности незабвенного кн. Шаховского: эти анекдоты надобно разыгрывать, а не рассказывать» (Аксаков III, 79). Приведенная сейчас цитата в тексте воспоминаний существовала в контексте рассказа о театральной деятельности А. А. Шаховского. Возможно, не случайно и то, что в «Воспоминании об Александре Семеновиче Шишкове» целый ряд анекдотов из жизни своего героя Аксаков разместил непосредственно вслед за эпизодом рассказывающем о любительском театральном представлении в доме Шишкова, и, с точки зрения индивидуальной психологии, можно предположить, что в сознании Аксакова присутствовала ассоциативная связь между экстравагантностью поведения и сценической деятельностью, так свойственная, по мнению Ю. М. Лотмана, русской дворянской культуре начиная XVIII века.71
Драматургическая составляющая анекдота активно использовалась многими мемуаристами. В мемуарной литературе XVIII века анекдот тоже мог иногда использоваться ради беллетризации повествования, в частности, и через возможность ввести в текст яркий, запоминающийся диалог. Так у Г. Р. Державина «Анекдот трансформируется в «Записках», как правило, в сцену столкновения Державина с царедворцами, лихоимцами или государем. Коллизии эти носят сюжетообразующий характер и служат частными «звеньями» основного конфликта произведения. Сцены строятся как диалог близкий к драматическому. Реплики участников диалога регулярно сопровождаются авторскими комментариями».72 Эта драматургическая природа анекдота, несомненно, ощущалась Аксаковым, однако в своей литературной практике он избрал путь ослабления диалогического начала в нем, адаптации к монологической стилистике своих произведений. Аксаков использует анекдот в качестве вспомогательного элемента с целью подчеркнуть, проиллюстрировать отдельные черты личности своего героя: например, эксцентричность поведения Шишкова или свойственную его характеру рассеянность. Если в разобранном нами эпизоде, посвященном их первой встрече, Аксаков через монолог иллюстрировал взгляды своего героя, его погруженность в мир своих идей, то, пересказывая анекдотические ситуации из жизни персонажа, он показывает, чем эта увлеченность оборачивалась в повседневной жизни – подчеркивает несовместимость ее с реальным бытом и образом жизни как самого Шишкова, так и русского общества. Отмеченная выше, свойственная Аксакову сниженная, «номинативная» стилистика повествования в этом отношении приобретает особое значение. Так, рассказанный языком «среднего стиля», анекдот теряет свою сатирическую заостренность, и то, что в устном бытовании должно было восприниматься как «история о невероятном событии», благодаря языковой адаптации к нормальному языку утрачивает элемент невероятности и становится рассказом о достоверном, закономерном, обыденном событии, эпизоде, который не мог не произойти в жизни героя воспоминаний.
Во второй главе нашей работы мы показали, как тема произведения предопределяет его мотивно-сюжетную структуру. Подобным образом внутреннее единство поэтики жанра сводит вместе самые разные художественные приемы. В частности, одной и той же функцией оказываются наделены и рассмотренная нами выше стилизация речи персонажа, и акцентирование внимания на анекдотичных ситуациях из его жизни. Оба эти приема используются Аксаковым как средство выявить наиболее типичные черты в образе героя и окружающего его мира. Происходит это благодаря присущей обоим этим художественным приемам общей функциональной особенности: они – наглядно-иллюстративны. И именно это качество делает их незаменимыми средствами портретизации, особенно в мемуарно-биографической прозе. Здесь, в силу присущей им иллюстративности, они становятся более заметны на фоне общего стилистически нейтрального потока повествования, даже без использования других дополнительных стилистических средств. Если в новелле, особенно в сказовой, стилизация речи и анекдотический сюжет, как правило, стилистически ярко выделены, что продиктовано условиями жанра, то в мемуарно-биографической прозе, особенно такой, как у Аксакова, с ее ориентацией на монологизм, яркость стилистической окраски становится необязательной. Анекдот – так же, как и стилизованный монолог – является композиционным элементом, способным выступать в повествовании в функции иллюстрации и без каких бы то ни было дополнительных приемов, направленных на обособление его в тексте, что, конечно, является следствием его бытования как самостоятельного жанра. Этому способствуют, как присущая анекдоту целостность, законченность, которая естественным образом обособляет его в повествовании, так и заложенная в нем яркая образность, драматургическая наглядность.
Литературный анекдот, изначально являясь самостоятельным жанром, обладает целым рядом присущих ему свойств, которые могут быть использованы автором-мемуаристом. В частности, по сравнению с обычным авторским повествованием, он выделяется тем, что не только свидетельствует о личном отношении рассказчика, но и получает дополнительное подтверждение истинности рассказываемого как бы со стороны, отсылкой к авторитету общественного сознания, в недрах которого и зародился конкретный анекдот. Такое его замечательное качество определяет отмечавшуюся выше связь этого жанра с мемуаристикой, и обуславливает активное использование анекдота как значимого художественного элемента мемуарной прозы. Вот еще почему, регулярно включая в свои воспоминания, адаптируя к своему стилю, Аксаков не растворяет полностью анекдот внутри текста. Он обращает на него читательское внимание, маркируя его начало либо прямым указанием на то, что это анекдот, сопровождает его условным зачином и даже развернутым комментарием, в котором подчеркивает отмеченную нами жанровую особенность, достоверность его подтвержденную общим мнением о герое – в данном случае, Шишкове: «Впрочем, надо признаться, что Шишков был находка, клад для насмешников: его крайняя рассеянность, невероятная забывчивость и неузнавание людей самых коротких, несмотря на хорошее зрение, его постоянное устремление мысли на любимые свои предметы служили неиссякаемым источником для разных анекдотов, истинных и выдуманных. Рассказывали, будто он на серьезный вопрос одного государственного сановника отвечал текстом из священного писания и цитатами из какой-то старинной рукописи, которая тогда исключительно его занимала; будто он не узнавал своей жены и говорил с нею иногда, как с посторонней женщиной, а чужих жен принимал за свою Дарью Алексевну. Я не считаю, впрочем, этого невозможным, потому что сам был свидетелем вот какого случая» (Аксаков, II, 289 - 290).
В отличие от других жанров, в мемуарном тексте анекдот, кроме прагматической ситуации репродуцирования, оказывается еще и в прагматической ситуации генерирования. Случалось, что именно благодаря мемуарам забавный эпизод, ранее известный узкому кругу лиц, близких герою, приобретал известность и начинал новую жизнь в пространстве устного бытования. Вне зависимости от того, насколько часто такое происходило, сама возможность настраивала читателя на поиск в мемуарном тексте анекдотических эпизодов. К примеру, многие анекдоты, зафиксированные Вяземским в своих записных книжках, имеют уже не устное, а книжное происхождение, и главным источником их являлись мемуары.73 В свою очередь, осознание подобных читательских ожиданий влияло на авторскую позицию мемуариста, и соответственно, на стилистику подобных эпизодов – как, например, в следующем отрывке: «Дядя вообще был не ласков в обращении, и я не слыхивал, чтоб он сказал кому-нибудь из домашних любезное, приветливое слово; но с попугаем своим, из породы какаду, с своим Попинькой, он был так нежен, так детски болтлив, называл его такими ласкательными именами, дразнил, целовал, играл с ним, что окружающие иногда не могли удержаться от смеха, особенно потому, что Шишков с попугаем и Шишков во всякое другое время – были совершенно непохожи один на другого. Случалось, что, уезжая куда-нибудь по самонужнейшему делу и проходя мимо клетки попугая, которая стояла в маленькой столовой, он останавливался, начинал его ласкать и говорить с ним; забывал самонужнейшее дело и пропускал назначенное для него время, а потому в экстренных случаях тетка провожала его от кабинета до выхода из передней» (Аксаков II, 292). Обратим внимание, как, приступая к рассказу анекдотичной истории, автор внутренне начинает ощущать себя в ситуации устной беседы: когда потенциальный читатель принимает облик собеседника, лично знакомого. Отсюда интонация рассказа становится более доверительной: Аксаков, например, в такие моменты Шишкова, который ему формально родственником не приходился, называть начинает по домашнему – «дядей». В только что цитированном отрывке это тоже происходит. Выше мы отмечали, что проза Аксакова, следуя классификации В. В. Виноградова, с точки зрения формы речи ориентирована на иллюзию произнесения. В «анекдотичных» эпизодах воспоминаний о Шишкове эта ее особенность обостряется еще сильнее, и в стилистике этого произведения начинает проскальзывать интонация непринужденного разговора.
Отмеченный сдвиг в стилистике в сторону усиления разговорного начала неминуемо оказывает влияние и на поэтику текста: в частности, на композицию. Вообще, анекдот редко существует изолированно, как единичный текст; циклизация, появление серий анекдотов – это важнейшая жанровая черта, свойственная и фольклорной, и литературной его разновидностям. Кроме того, в ситуации устного исполнения анекдот редко рассказывается как отдельный текст; как правило, рассказ одного анекдота влечет за собой следующий, связанный с предыдущим какой-либо ассоциативной связью или даже просто общим персонажем. Анекдот рассказывается «кстати» – и с такой же логикой, свойственной устному бытованию этого жанра, руководствуется и Аксаков, когда, непосредственно сразу после истории о пристрастии Шишкова к попугаю, следует рассказ о его любви к голубям, а затем – анекдотичную историю о рассеянности своего героя, причем начинает ее примечательным условным зачином: «Здесь кстати рассказать забавный анекдот и пример рассеянности Александра Семеныча, который случился, впрочем, несколько позднее» (Аксаков II, 92). Внедрение в письменный текст подобных условных формул, а также построение текста в соответствии с композиционными приемами, свойственными устной форме бытования анекдота, – все это помогает построению образа автора как непринужденного рассказчика, столь характерному для прозы Аксакова.
Образ автора, вызывающий симпатию и доверие, в значительной мере предопределяет успех мемуарного произведения, поэтому популярность книг Аксакова также во многом является следствием языка, которым они были написаны. Стилистика их чрезвычайно разнообразна. Ему удалось, используя многочисленные приемы, выработанные художественной литературой, адаптируя их к жанру воспоминаний, достичь незаметности мастерства, которое современниками воспринималось как эталон простоты и безыскусности стиля. Мы рассмотрели в нашей работе лишь немногие из них: способы стилизации речи персонажей, использование анекдота – речевого жанра, уникального по своим потенциальным возможностям. Эти и другие художественные приемы, а главное – ориентация на стихию устной речи, ощущение фактурности звучащего слова, которой Аксакову удалось добиться в своих произведениях, определяют его уникальное положение среди наших писателей-классиков.
1 Белинский В. Г. Взгляд... С. 372.
2 Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи… С. 63.
3 Михайлов А. В. Цит. соч. С. 104
4 Сравнению стилистики Аксакова 30-х и конца 50-х годов посвящена работа: Яковлева Т. В. Художественный стиль очерков С. Т. Аксакова «Буран» и «Очерк зимнего дня»: сравнительный аспект // Аксаковский сборник. Выпуск 5. Уфа, 2008. С. 136—141.
5 Впервые опубликован в 1833 году.
6 Durkin A Op. cit. P. 62—63.
7 Батюто А. И. Творчество И. С. Тургенева и критическо-эстетическая мысль его времени // Батюто. А. И. Избранные труды. СПб., 2004. С. 615.
8 Эта переписка и творческие взаимоотношения писателей неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. Кроме уже упоминавшихся работ С. И. Машинского и Э. Л. Войтоловской, хотелось бы упомянуть кандидатскую диссертацию Е. П. Никитиной, которая в значительной степени посвящена этим вопросам. Никитина Е. П. Творческая индивидуальность С. Т. Аксакова в историко-функциональном и сравнительно-типологическом освещении. Магнитогорск, 2007.
9 Переписка И. С. Тургенева… С. 313.
10 Еще в середине 30-х годов К. С. Аксаков, через противопоставление «эффектерству», выделил четыре основных признака истинного искусства: «1) «непридуманность создания», отсутствие задачи «произвести впечатление», «вставить фразу попышнее» и т. п.; 2) «незаметность мастерства», создание такого словесного целого, в котором «слова для вас нечувствительны»; 3) отсутствие внешних эффектов, неэстетичных уже по своей природе («Если станут сдирать перед вами кожу с быка, рубить голову человеку, на вас это также произведет впечатление...»); 4) психологическая достоверность в передаче человеческого поведения (в качестве обратного примера приводится эпизод из Гюго: «Он (Клод Фролло. – В. К.) вырывал волосы из головы своей, чтобы посмотреть, не седеют ли они. Как вам это покажется? Хорошо отчаяние, в котором человек помнит себя и думает о том, не седеют ли волосы!» Цитируется по: Кошелев В. А. Не право о вещах те думают, Аксаков… // Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 29—30.
11 Аксаков К. С. Воспоминания студентства 1832—1835 годов. // Русские мемуары. Избранные страницы. М., 1990. С. 97—98.
12 Переписка И. С. Тургенева…. С. 313
13 Примеры ссылок на произведения С. Т. Аксакова в качестве лексикографического источника см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV (C – V), М., 1994, (Репринтное воспроизведение с издания 1903—1909 гг. Под ред. Бодуэна-де-Куртенэ). С. I, или Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. II. СПб. 1996. С. 211.
14 Переписка И. С. Тургенева…. С. 313
15 Там же. С. 315.
16 Чичерин А. В. Очерки... С. 146.
17 Hodge T. P. Цит. соч.
18 Селитрина Т. Л. Судьба древней мифологии в национальных литературах. «Охотничий цикл» С. Т. Аксакова // Аксаковский сборник. Выпуск 5. Уфа, 2008. С. 167.
19 Для примера приведем некоторые из них:
«3) Слово беглец (стр. 24), вероятно, не употреблялось тогда – в простых разговорах, как и ныне, не скажут: он беглец, а он беглый.
4) Простоволосая (стр. 38) значит не глупую, а не повязанную платком женскую голову, что считалось и считается предосудительным; отсюда в переносном смысле составился глагол опростоволоситься, то есть дать себя поймать без повязки, застать врасплох.
5) Слово мыт (стр. 39) надобно объяснить. Его знают как имя болезни.
6) Я не привык кормиться ничьими остатками (стр. 77). Дурное и двусмысленное выражение. Объедками, вероятно, желал сказать сочинитель.
7) Не говорят колдуну: тебя умудрил господь (стр. 105).» (Аксаков III, 500—501).
20 Добролюбов Н. А. Разные сочинения С. Аксакова… С. 472.
21 Хомяков А. С. Цит. соч. С. 411—412.
22 Поспелов Г. Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970. С. 56.
23 «Точно в таком положении находился я. Можно себе представить, как я обрадовался книге Шишкова, человека уже немолодого, достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика «Детской библиотеки», которую я еще в ребячестве вытвердил наизусть! Разумеется, я признал его неопровержимым авторитетом, мудрейшим и ученейшим из людей! Я уверовал в каждое слово его книги, как в святыню!» (Аксаков II, 268).
24 «Метод разработки нового стиля, примененный Достоевским и состоявший в слиянии крайностей, не был воспринят современниками, предпочитавшими добиваться золотой середины, избегая крайностей. Триумф среднего стиля – характерная черта русского реализма от сороковых годов до Чехова. Он был впервые достигнут в творчестве трех писателей, принадлежавших к укорененному классу дворян-землевладельцев, а не к беспочвенной плебейской интеллигенции, – Аксакова, Гончарова и Тургенева». Мирский Д. С. Аксаков // Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. – London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 276.
25 Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 2006. С. 39—40.
26 Чичерин А. В. Очерки... С. 158.
27 Там же. С. 161
28 Виноградов В. В. О языке художественной прозы... С. 47.
29 Виноградов В. В. О теории художественной речи... С. 221.
30 Переписка И. С. Тургенева…. С. 309.
31 В частности, в «Ответе «Москвитянину»» Белинский писал: «Нам кажется, что славянофильству чуть ли не более следует название «петербургского» направления, чем московского. По крайней мере, сколько мы знаем славянофильство, оно совсем не так ново на Руси, как, может быть, думают сами последователи этого учения. Кому неизвестно, что успехи Карамзина в преобразовании русского литературного языка вызвали, в начале нынешнего столетия, партию, которая, вооружаясь против его нововведений, думала отстаивать от иноземного влияния родной язык и добрые праотческие нравы! Как вы думаете, не сродни ли эта партия нынешним славянофилам?». Белинский В. Г. Ответ «Москвитянину»… С. 293.
32 Показателен в этом отношении эпизод, упомянутый И. С. Аксаковым в одном из его писем к отцу: «Благодарю Вас за сообщение строк «Русского вестника» о Вашей книге; приятно было мне прочесть их, но понимаю, какою строкою Вы были задеты за живое». Аксаков И. С. Письма к родным 1849—1856. М., 1994. С. 424. По мнению комментатора Т. Ф. Пирожковой, Аксаков мог быть недоволен словами Ф. М. Дмитриева в рецензии на «Семейную хронику и Воспоминания» в «Русском вестнике»: «Любовь к национальному, к родному выразилась у нас исключительным образом. От законного требования народного самосознания преемники Шишкова перешли к национальной исключительности, забывая, что против нее-то и бились лучшие люди времен прошедших». («Русский Вестник», 1856, Т. II. № 3—4. Отд. Современная летопись. С. 45.) Там же. С. 616—617. Воспоминания о Шишкове к тому времени были уже Аксаковым написаны, но он не решался их публиковать, опасаясь препятствий со стороны цензуры.
33 Хомяков А. С. О возможности русской художественной школы. // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. С. 136
34 «Не тот ли воинственный и старомодный старик, неистовый автор «Рассуждения о старом и новом слоге», еще задолго до Гоголя заразил студента Аксакова своим чутьем к плотности, к звучности, зримости, запаху, силе коренного русского слова?». Чичерин А. В. Очерки... С. 157
35 «Шишков читал многим поэму Шихматова, переплетенную с белыми листами, исписанными множеством его собственноручных отметок, замечаний и объяснений. Он наблюдал такой порядок: сначала прочитывал целый куплет, а потом возвращался к замеченному слову или выражению. Я, познакомясь короче, списал себе в особый экземпляр все замечания Шишкова, но потерял его и теперь пишу на память. Я мог бы припомнить гораздо больше, но считаю достаточным этого образчика. По совести должен я сказать, что Александр Семеныч употреблял хитрость, читая Шихматова: он выбирал или лучшие места, или такие выражения, которые, будучи им объяснены, переставали, как он думал, казаться читателю странными» (Аксаков II, 276).
36 Шишков А. С. Разговоры о Словесности между двумя лицами Аз и Буки. // Шишков А. С. Собрание сочинений и переводов. Ч. III. СПб., 1824. С. 80. Мы выбрали отрывок именно из этого трактата, кроме прочего, еще и по той причине, что, по признанию Аксакова, в основу его содержания легли разговоры Шишкова с самим молодым Аксаковым, поэтому книга эта может служить дополнительным источником при изучении биографии писателя и его взглядов в годы юности.
37 Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959. С. 122. Конечно, стилистика аксаковских воспоминаний – это не сказ, но ее роднит с ним явная ориентация на «звучащую» речь.
38 Подробно эта проблема рассматривается в исследованиях: Таракин П. М. Театральная и литературная критика С. Т. Аксакова: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Самара., 2001 и Харитиди Я. Ю. Начало профессиональной театральной критики в России. С. Т. Аксаков: автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 2007.
39 Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М... С. 71—72.
40 Там же. С. 71—72.
41 Хомяков А. С. Сергей Тимофеевич Аксаков… С. 412—413.
42 Аксакова В. С. Дневник 1854—1855 гг. М., 2004. С. 41.
43 Там же. С. 58.
44 Лотман Ю.М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 795.
45 Переписка И. С. Тургенева…. С. 314.
46 Вяземский П. А. Записные книжки (1813-1848). М., 1963. С. 220.
47 Русский Архив. 1870. С. 1706—1707. Цитируется по изданию: Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII... С. 160.
48 Вяземский П. А. Записные книжки... С. 67—68.
49 Цитируется по: Машинский С. И. Цит. соч. С. 354
50 Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 268.
51 Этот подход И. И. Дмитриева к своим воспоминаниям был свойственен большинству авторов того времени. Достаточно сравнить приведенный отрывок с предисловием к запискам, написанным его племянником и душеприказчиком М. А. Дмитриевым. В них прагматичный подход заявлен еще более отчетливо: «Я знаю многое кое-что об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто. Когда мне случалось упоминать в разговоре что-нибудь из прежнего времени, многим казалось это новым. Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старее молодых словесников: преимущество не важное! – Но, желая поделиться с другими моею памятью, я решился записать все мелочи из ее запаса. Прошу и смотреть на это, как на мелочи, и не требовать от меня ни порядка, ни важных сведений. Я и сам еще не знаю, что напишется и с чего начать». Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М.А. Московские элегии. М., 1985. С. 142.
52 Эйхенбаум Б. М. С. П. Жихарев и его дневники. // Жихарев С. П. Записки современника. М. – Л., 1955. С. 653
53 ««Записки современника» остались после покойного князя Степана Степановича Борятинского в письмах к нему близкого его родственника С. П. Ж[ихаре]ва, с которым, несмотря на разность в летах и на обстоятельства, их разлучавшие, он соединен был, сверх уз родства, искреннею и безусловною дружбою до самой своей кончины.
Князь Борятинский еще при жизни своей успел пересмотреть все эти письма и сделать им строгий разбор: из одних многое, до разным отношениям и уважениям, исключил, другие совсем уничтожил, остальные приведены им в периодический порядок двух «Дневников»: а) Студента, с 1805 по 1807 год, и б) Чиновника, с 1807 по 1819 год, к которым объяснения и замечания сделаны прежде князем, а впоследствии самим С. П. Ж[ихаревы]м». Там же. С. 5. Это предисловие, кроме вышеуказанной, выполняет еще одну функцию: оно настраивает читательские ожидания на восприятие его записок как на текст, по терминологии В. Виноградова, ориентированный не на «устную», а на «книжную» речь.
54 Там же. С. 653—654
55 Там же. С. 653
56 Наиболее глубоко проблемы поэтики русского литературного анекдота были исследованы в работах Е. Я. Курганова: Курганов Е. Я. Литературный анекдот пушкинской эпохи. Хельсинки, 1995; Курганов Е. Я. Анекдот как жанр. СПб., 1997 и др.
57 Вяземский П. А. Фон-Визин // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 5. СПб., 1880. С. 52—53.
58 В 20-е годы С. Т. Аксаков и П. А. Вяземский причисли себя к враждебным эстетическим и идеологическим лагерям. Об их взаимоотношениях того времени см.: Машинский С. И. Цит. соч. С. 46—49. Позднее их отношения смягчились. Аксаков, с некоторой долей иронии, пишет в «Литературных и театральных воспоминаниях» о былом противостоянии. Со своей стороны, Вяземский, в своих «Записках» отмечал, что С. Т. Аксаков «под старость просветлел и ободрился силою и свежестью прелестного дарования». Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2003. С. 282.
59 Текст цитируется по статье: Земскова Е. Е. Русский патриотизм в немецком переводе: А.С. Шишков в воспоминаниях Э. М. Арндта // Русская антропологическая школа. Труды. Т. 2. М., 2004. С. 90.
60 Подробнее см.: Вертлиб Е. А. Русское – от Загоскина до Шукшина (опыт непредвзятого размышления). СПб.: Библиотека «Звезды», 1992.
61 Переписка И. С. Тургенева…. С. 313.
62 Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 324.
63 Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии. Helsinki, 1995. Интернет-ресурс: http://www.slav.helsinki.fi/publications/sh/sh15_1.html
64 Курганов Е. Я. Анекдот как жанр. СПб., 1997. С. 25—26.
65 Некоторые современные исследователи рассматривают исторический анекдот как подвид мемуарного жанра. Подробнее см.: Боровикова М. В., Гузаиров Т. Т., Лейбов Р. Г., Сморжевских-Смирнова М. А., Фрайман И. Д., Фрайман Т. Н. Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы. // «Цепь непрерывного преданья…»: Сборник памяти А. Г. Тартаковского. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т., 2004. С. 352—354.
66 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе... С. 179—180.
67 Там же. С. 626.
68 Курганов Е. Я. Анекдот как жанр… С. 30—31. Курсив автора.
69 Вяземский П. А. Старая записная книжка... С. 666.
70 Курганов Е. Я. Анекдот как жанр... С. 13.
71 Подробнее об этом см.: Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII – начало XIX века). М, 2000. С. 537—575.
72 Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы. М., 2002. С. 125.
73 Приведем лишь один пример, свидетельствующий о том, как отрывок из мемуаров Шишкова в сознании Вяземского на наших глазах облекается в типично анекдотическую жанровую форму: «Продолжаю читать записки Шишкова, которые привез сюда Завадовский. Добрый Шишков удивительно забавен своим простодушием, чтобы не сказать простоумием. Он рассказывает, что на дороге от Твери в Петербург видел он на небе два облака, из которых одно имело вид рака, а другое – дракона, и что рак победил дракона. «Сидя один в коляске, – говорит он, – долго размышлял я: кто в эту войну будет рак и кто дракон?» Другому пришло бы в голову, что рак означает Россию, потому что армия наша все ретируется; но добрый Шишков чистый израильтянин, в нем нет лести, и ему пришло, что рак означает Россию, поскольку оба эти слова начинаются буквой Р. И эта мысль, заключает он, утешала меня во всю дорогу». Вяземский П. А. Старая записная книжка... С. 797.