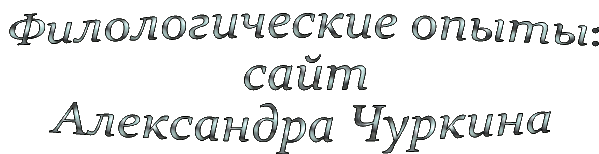Чуркин А. А.
Мемуарно-автобиографическая проза С. Т. Аксакова: проблемы поэтики
Глава 2. Семейная тема в «Семейной хронике».
1. Тематика «Семейной хроники».
К середине XIX века риторика как система, на протяжении многих веков определявшая развитие словесности, утратила свое влияние под давлением реалистической литературы нового времени. Во второй половине XX столетия она начала постепенно отвоевывать свое место в литературоведении. В частности древний риторический принцип: «Целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное – на основании целого» – послужил основанием для развития целого направления современной философской и научной гуманитарной мысли – герменевтики. Заложенный в нем принцип был плодотворно использован, благодаря тому, что содержал в себе идею «герменевтического круга»: когда восприятие текста рассматривается как процесс, движение от целого к частному и от него снова к целому, но уже с новым его пониманием – обогащенным и измененным в силу накопленного знания о частном1.
В самых корнях русской литературоведческой традиции лежит еще одно изречение, казалось бы, внешне столь не похожее, но, по сути, очень близкое к только что приведенному нами. Это знаменитое определение сюжета, данное А. Н. Веселовским в его «Поэтике сюжетов»: «Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения-мотивы».2
О сходстве между приведенными изречениями можно говорить исходя из того, что внутренняя взаимосвязь каждого из составных элементов формулировки А. Н. Веселовского, сюжета, темы и мотива, также по-своему отражает диалектику частного и целого. И в данном контексте с категорией «целое» будет соотноситься, наверное, один из самых пререкаемых литературоведческих терминов – сюжет. Это понятие за историю развития филологии приобрело столько определений, что просто невозможно употребить его само по себе, не пояснив предварительно, в каком значении оно используется. Однако в каком бы направлении в дальнейшем ни интерпретировался и уточнялся этот термин, концептуальная его основа, присутствующая еще у А. Н. Веселовского, сохраняется нетронутой. Сюжет – это нечто, неразрывным образом связанное с содержанием произведения, его идеальная схема, некая абстрактная сумма смыслов, вложенная в него автором или воспринятая читателем. Причем особо здесь значимо слово «сумма»; недаром, желая подчеркнуть присущее мотиву и особенно сюжету это качество суммарности элементов содержания, А. Н. Веселовский для наглядности использовал алгебраическое выражение: «a+b».3 Вообще же, в своей работе он предпочитал использовать восходящее к аристотелевской риторике понятие «схема» и производное от него – «схематизм», ярче демонстрирующее способность сюжета к вариации и модификации как самостоятельно внутри себя, так и под внешним воздействием со стороны других мотивов и сюжетов.
То, что сюжет является результатом суммирования, схематизированного упорядочения присущих произведению смыслов, радикально отличает его от другого составного элемента формулы А. Н. Веселовского – темы. Она – как, впрочем, и сюжет – есть результат абстрагирования от содержания, но абстрагирования в максимальной степени: с вынесением, по возможности, за скобки всех частностей. В своем предельном выражении тема – это содержание произведения, выраженное всего одним словом. Тема связана с представлением о внутренней целостности произведения.4 И тема, и сюжет заключают в себе идею произведения как некого единого целого, но если в теме на первый план выходит идея его единичности, исключительности, то в сюжете – идея внутренней сложности этого целого, его многосоставности. В теме единство произведения заявляется, а через сюжет оно осуществляется, поскольку последнему присуща особая синтезирующая функция, благодаря которой любой семантически значимый элемент оказывается связанным с целым – темой произведения.
Если тема и сюжет соотносятся между собой как две формы реализации категории «целое», то категория «частное» проявляет себя в тексте через мотив. Именно через соединение мотивов ярче всего выявляет себя отмеченная синтезирующая отдельные частности функция сюжета.5 Причем в данном случае можно отвлечься от проблемы «разложимости» мотива, которая неизбежно встает при рассмотрении этого понятия. Еще В. Я. Пропп обратил внимание на то, что те примеры мотивов, которые приводит А. Н. Веселовский для иллюстрации своей концепции, отнюдь не являются «простейшими повествовательными единицами» и могут быть разложены на более мелкие составляющие. В свою очередь, понимание этого термина, предложенное Б. В. Томашевским, позволяет считать, что вообще «каждое предложение обладает своим мотивом».6 Однако, какое бы определение мы ни использовали, везде за понятием «мотив» будет стоять идея частного: некой единицы, лишенной самостоятельного существования и обретающей его лишь внутри целого – сюжета произведения и его темы.
Сюжет, тема, мотив – вполне устоявшиеся термины, уяснению и интерпретации смысла которых посвящена обширная литература.7 Рядом с ними в формулировке А. Н. Веселовского присутствует еще и довольно странное для нашего уха слово – «снуются». В современном языке мы, как правило, используем его для описания беспорядочного движения взад и вперед; в XIX же веке оно имело смысл почти противоположный. По Далю, первое его значение: «Сновать пряжу, сновать основу, сновать кросна, прокладывать основу, продольные нити ткани по которым ходит уток. Сновать решетку, в вышивке, плести иглой».8 Итак, когда мотивы снуются, они прокладывают основу, на которую в дальнейшем лягут и с которой тесно переплетутся другие сюжеты, мотивы и все остальные элементы повествования. Причем выстраивание этой основы происходит не бессистемно, а с соблюдением ключевого правила, которое вытекает из формулы А. Н. Веселовского: мотивы снуются в теме произведения, т. е. отбор мотивов и их связь определяются темой. Каким образом происходит этот процесс «снования», как закладывается мотивная основа текста, мы и рассмотрим далее в нашей работе на примере «Семейной хроники» С. Т. Аксакова.
То, что все творчество Аксакова и особенно «Семейная хроника» основано на семейной тематике является общим местом, как бы и не нуждающимся в доказательстве. Трудно найти более подходящую книгу для ее исследования. «Семейные хроники старшего Аксакова освятили жизнетворчество семьи, всегда цельное, какие бы исторические и индивидуальные катаклизмы ее ни потрясали».9 Уже само название произведения должно настраивать читателя соответствующим образом. С первых строк произведения заданная тема подтверждается и стилем рассказа, и авторской точкой зрения, когда повествование ведется от лица представителя младшего поколения семьи; к тому же, строится оно на основе личных детских воспоминаний и на рассказах очевидцев описываемых событий присутствием мемуарной подосновы текста: когда за главными персонажами, прототипами стоят родственники писателя. В принципе этого уже достаточно, чтобы говорить: главной в произведении является тема семьи, и на связанных с ней мотивах будет выстраиваться сюжетное единство текста
Мы уже отмечали, что выстраивание мотивной основы происходит не бессистемно и, что отбор мотивов и их связь неразрывно взаимосвязаны с темой всего произведения, поэтому и любой анализ мотивной структуры текста по необходимости должен начинаться с определения тематики. То, что мы в рассматриваемом произведении выделили как центральную «тему семьи», во многом предопределит и направление всего исследования. Но, пытаясь определить ее заранее, прежде подробного разбора системы мотивов произведения мы сталкиваемся с серьезной проблемой, которую в свое время замечательно сформулировал Б. М. Энгельгардт: «Дело в том, что тематика поэтического произведения не может быть рассматриваема как объективный элемент самого произведения».10 Невозможно из текста произведения объективно и доказательно вывести его тематику – она «предзадана» в нем, но как продукт абстрагирования от содержания существует лишь в сознании автора и читателей. К тому же, и там и там тема не фигурирует как целостная абстракция, которую можно отчетливо сформулировать в виде одного или нескольких логически связанных положений. Сам Энгельгардт предпочитал говорить о «тематическом ряде», эстетическое впечатление от которого даже у одного и того же человека в разные периоды его жизни будет разным.11 В результате, определяя тему любого произведения, мы вынуждены основываться на своем собственном субъективном восприятии содержания произведения, и даже внутри этого субъективного восприятия в процессе абстрагирования многое редуцировать, и еще большее выносить за скобки. Однако не стоит из этого делать вывод о ложности любого определения темы произведения и принципиальной невозможности ее вывести. В конце концов, определение темы – это лишь начальный этап работы, и только дальнейшее исследование мотивной системы покажет, насколько верным и продуктивным оно было. Положительным результатом стало бы выявление в произведении некоего слоя: или если продолжить ткацкую метафору А. Н. Веселовского – сетки, канвы, взаимно перемежающихся нитей-мотивов, своим переплетением скрепляющих в единое целое ткань повествования.
Тема семьи – одна из самых распространенных в литературе. Трудно найти произведение, в котором она не присутствовала бы: то в форме авторских размышлений о тех или иных проблемах семейной жизни, то через использование специфических мотивов. Эти мотивы связаны с понятиями любви, брака, детства, воспитания и т. д.; подробно перечислять их не нужно, поскольку они общеизвестны, да и число их чрезвычайно велико – все они широко распространены в искусстве вообще и в литературе в частности. Значение этих мотивов и их широкая распространенность, естественно, определяются ролью, которую играет семья в жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
Однако, несмотря на ее универсальность, не так много существует произведений, где тема семьи становится центральной. Размышляя об особенностях книг Аксакова, Андрей Платонов сделал замечательное наблюдение: «Образа семьянина, художественно равноценно Дон-Жуану, не существует в мировой литературе. Однако же образ семьянина более присущ и известен человечеству, чем образ Дон-Жуана. Это один из парадоксов развития художественной идеологии».12 Не будем углубляться в психологические причины этого – ограничимся лишь констатацией того, что традиционно тематическое ядро повествовательного литературного произведения героецентрично, строится на образе героя, иногда – отдельного человека, иногда – нескольких людей, судьбы, характеры и эмоциональные переживания которых лежат в основе канвы сюжета. То, что эти люди могут быть связаны между собой родственными узами, является хоть и важным, но лишь одним из составных элементов характеристики каждого в отдельности героя: наряду с полом, национальностью и темпераментом. Герой может создавать свою семью, поддерживать ее существование, защищать от вторжения враждебных сил или лиц, но при этом все равно в центре повествования, как правило, остается сам герой, а не его семья. Даже в таком жанре, как семейный роман, она служит скорей фоном, на котором ведется повествование о жизни и судьбе отдельных персонажей. Но нет правил без исключений, и тем более интересны произведения, в которых сама семья как единое, целостное явление становится темой художественного осмысления. Это происходит тогда, когда семья как бы берет на себя сюжетообразующие функции героя, семейные отношения перестают играть второстепенную роль мотивировки поступков персонажей, а начинают занимать едва ли не центральное место. В итоге семья начинает восприниматься не просто как группа лиц, а как некое замкнутое на себя единое целое.
К счастью, парадокс, отмеченный А. Платоновым, все-таки не является универсальным законом. Семья, занимая столь важное место в жизни человека и общества, неминуемо должна была занять особое место также среди тем и сюжетов литературы. Вспомним еще одно из определений данных А. Н. Веселовским: «Сюжеты – это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности».13 Литература вообще – а мемуарная и биографическая, в силу своей документальности, в особенности – стремится к прямому отражению реальности, «актов человеческой жизни» и «бытовой действительности». Но, с другой стороны, оставаясь литературой, она неминуемо вынуждена прибегать к выработанному предшествующей традицией художественному языку и как бы адаптировать описываемую реальность к возможностям этого языка. В результате в описаниях конкретных, реально существовавших лиц проступают черты персонажей фольклорных, мифологических, возобновляются древние архетипы и мотивы. Определенная трансформация происходит и с принципами изображения семьи, когда она выходит на передний план повествования. В этом случае идея семьи как некоего единого целого, как самодостаточного организма начинает воплощать себя через архаичные родовые мотивы, и в первую очередь, через те из них, которые напрямую связаны с идеей единства рода, его внутренней целостностью: например, через архетипы общего предка и героя-наследника, мотивы сватовства и свадьбы. К упомянутым мотивам следует прибавить еще один специфический сюжет, связанный с идей единства рода, и утверждающей ее, так сказать, от противного – сюжет разрушения единства семьи через распрю. Существуя в комплексе, в тесной взаимосвязи, именно эти мотивы «снуются», составляют своего рода основу, на которой и будет строиться повествование в той его части, которая касается жизни семьи. И здесь возникает целый ряд специфических вопросов: как сочетаются мотивы между собой, и что их удерживает вместе? какое влияние они оказывают друг на друга и сообща на сюжет произведения в целом? В итоге же все эти вопросы сводятся к одной, ключевой проблеме – механизмам взаимодействия родственных мотивов в рамках произведения.
2. Архетип «первопредка» в образе Степана Михайловича Багрова.
Понятия, связанные с идеями рода и наследования, имеют глубочайшие, уходящие в первобытное сознание человечества корни, но архаичность этих понятий не препятствует их включению в категориальный аппарат философской и научной мысли. В свое время в гигантском по охвате тем и, к сожалению, неоконченном труде «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)» о. П. А. Флоренский определил идею родства как ключевую для культурологии и выполняющую в науках исторического цикла ту же функцию, что и категория причинности в науках естественных.14 Развивая это положение, он выделил генеалогию в качестве первичной формы фиксации исторического знания. Основные же категории, формирующие систему генеалогической связи, он описал следующим образом: «Родство и свойствó – вот наименование основных типов генеалогической связи. <…> корень родства – сыновство, корень свойства – женитьба. Отче-сыновние отношения и отношения брачные не сводимы друг на друга. И если первые, как мы видели, образуют связь поколений во времени, то вторые – условие единства в пространстве. Сеть свойства и родства образует ту основу, на которой располагаются прочие временно-пространственные отношения явлений. Координатными же осями служат отчество и брак. Повторяю, они не сводимы друг на друга. Отчество и брак наиболее глубокие основы для идеи времени и пространства, т. е. для всего познания. Все виды отношений произведены около этих и мыслятся по подобию этим. Всякое отношение мыслится либо как род родительства-сыновства, либо как род брака».15
Таким образом, понятия «родства» и «свойствá», по мнению Флоренского, соотносятся с философскими понятиями времени и пространства, причинности и взаимодействия. Для нашей же темы они важны прежде всего тем, что могут рассматриваться не только как принципы генеалогической связи, но и как структурообразующие категории семьи. Эти категории выступают в качестве системной основы большинства мотивных комплексов, связанных с понятием семьи. Так, категория «родства» оказывается внутренне связана с архетипами предка, потомка и мотивами наследования. А категория «свойства» – с архетипами жениха (мужа), невесты (жены) и многочисленными мотивами, группирующимися вокруг обряда свадьбы. Связующим началом, позволяющим каждому из этих архетипов и мотивов взаимодействовать друг с другом, как мы увидим далее, оказывается присуща каждому из них пространственно-временная определенность. Отсюда, другим важным следствием, вытекающим из концепции генеалогии, выработанной о. П. А. Флоренским, является указание на существование особого хронотопа, присущего понятию «семья» и мотивам, связанным с ним.
Мотивы, основанные на идее родства, не просто играют существенную роль в композиции «Семейной хроники», своим присутствием они пронизывают все семантически значимые уровни текста. Влияние их на стилистику повествования становится ощутимо буквально с первых строк произведения; с того, как Аксаков объясняет причины переезда семьи своего деда на новые земли в Уфимское наместничество: «Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, – всего находилось в излишестве, – а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли» (Аксаков I, 73). Известно насколько важную роль играют первые строки произведения: удачно написанное начало является своего рода камертоном, оказывая сильное влияние на дальнейшее восприятие читателем всего произведения. Зачин «Семейной хроники» действительно замечателен: он буквально окунает читателя в основную тематику книги: переезд на новоосвоенные земли в Оренбургскую губернию и дальнейшую жизнь там семьи Багровых. Естественно, что одновременно читатель погружается и в круг идей, прямо или опосредованно связанных со спецификой внутрисемейных отношений и связей. Этому способствует вся стилистика приведенного нами отрывка – до преизбытка насыщенного разнообразной лексикой, ассоциированной с этими понятиями.
С первых страниц своей книги С. Т. Аксаков не просто использует понятия, связанные с категориями родства, но и включает свое повествование в контекст свойственных им пространственно-временных и причинно-следственных связей. Доминирующее положение здесь занимает временная координата, заданная через использование таких понятий, которые, с одной стороны, связаны с идеями рода и наследования, а с другой, обращают взгляд читателя в прошлое: например, когда он упоминает «родовую отчину, жалованную предкам от царей московских»16, или то, что «три поколения сряду, в роду его было по одному сыну и по несколько дочерей». Далее, на протяжении всего произведения, Аксаков неоднократно акцентирует внимание читателя на родственных связях героев, на отношении их к своему дворянскому роду, как, например, он это пишет о Степане Михайловиче Багрове: «Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае кстати объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и хотя у него было сто восемьдесят душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов» (Аксаков I, 77). Конечно, в словах Аксакова присутствует своеобразное остранение и даже некая доля иронии по поводу своего деда – с его излишней озабоченностью древностью своего рода. Но объектом авторской иронии здесь, скорее всего, является не столько черта характера конкретного человека, сколько сохраняющиеся в провинциальных помещичьих семьях остатки традиции местничества, что выглядело довольно несуразно на фоне бросающейся в глаза бедности их жизни.17 Позже, по ходу развития сюжета «Семейной хроники», эта несообразность займет особое место в идейной структуре произведения как важная составная часть традиционного «сельского» типа мировоззрения в его оппозиции «городскому».18 Как бы то ни было, в настоящий момент для нас более важно то, что, рассказывая, пока хоть и кратко, и иронично, предысторию семьи Багровых, Аксаков подспудно настраивает читателя на соответственное восприятие героев «Семейной хроники». Он напоминает, что жизнь его персонажей следует воспринимать не просто как рассказ о судьбах отдельных, обособленно существующих людей, а с учетом общего контекста жизни их семьи и шире – всего их рода.
В повествованиях о происхождении и истории рода присутствует определенная внутренняя логика в отборе событий и последовательности изложения. Эта логика имеет явно архетипичный характер, поскольку устойчиво воспроизводится в фольклорных записях внутрисемейных преданий.19 Последовательность изложения деталей в них может меняться, но, как правило, эти предания включают в себя этикетное рассуждение об ограниченных возможностях человеческой памяти, столь же этикетное сожаление о смерти представителей старших поколений, из-за которой нельзя восстановить многие детали. Затем следует рассказ о предках, их родственных связях, браке, рождении детей и иногда – о каких-либо особых событиях их жизни. По ходу изложения событий через хронологические соотнесения делаются попытки увязать события истории семейной с важными событиями в истории страны (войны, правления тех или иных руководителей государства и т. д.). Из фольклорной традиции этот круг тем перекочевал и в письменность. Уже в древневосточных литературах он регулярно возникает в начале рассказов, описывающих историю той или иной семьи на протяжении нескольких поколений. Мотивация переезда может быть разная: праведный Авраам переселяется в Ханаан, «Землю обетованную» по призванию Бога, другой библейский персонаж, Товия уводится в Ассирию как пленник, но логика развития дальнейшего рассказа подчиняется все той же логике. Пережив тысячелетия, этот мотивный комплекс почти в неизменном виде возникает и в мемуаристике нового времени. Ярким примером его служат «Записки М. Данилова», стилистика которых сохраняет элементы прежнего устного бытованиязаписанных в них рассказов.20 Мы уже упоминали, что Н. А. Добролюбов проводил параллель между ними и «Семейной хроникой».
Наконец, еще одна немаловажная деталь в фольклорных записях внутрисемейных преданий, рассказ обычно начинается с описания местности, откуда происходит род, и, по возможности, времени, с которого он там обосновался. Поэтому неслучайно, что в «Семейной хронике» повествование тоже начинается с рассказа о переезде основателя рода, в новое поместье, с описания местности, куда он переселился. В своей книге «Повести о прозе» В. Б. Шкловский условно выделил в русской литературе XIX века два подхода к описанию пейзажа: бунинский «беспредметно-бесцельный» и толстовский «конкретный» воспроизводящий крестьянский, функциональный взгляд, когда «человек, знающий природу, оценивает ее как земледелец».21 В рамках этой дихотомии пейзажи, которые мы видим на страницах «Семейной хроники», можно было бы охарактеризовать как разновидность толстовского, с одним важным уточнением, Аксаков смотрит на мир не столько глазами земледельца, сколько охотника и рыболова, что, вообще, не странно для автора двух самых знаменитых в русской литературе книг об охоте и рыбалке.
В главке «Оренбургская губерния» описание природы облекается в формы высокого стиля, почти эпические; исключительная точность описания, столь свойственная Аксакову натуралисту, сливается с риторической образностью и тональностью. В результате, сквозь узнаваемый образ оренбургского края проступают черты как идиллического пейзажа «locus amoenus», так и «земли обетованной», в ее романтической модификации, как чудесной земли с благоприятным климатом, наполненной всевозможными богатствами, лесами полными дичи, реками, изобилующими рыбой, почвой непаханой и плодородной. Наконец, кульминацией рассказа о переселении становится строительство плотины и мельницы, «которая и мелет и толчет до сих пор» (Аксаков I, 83), как, своего рода, символ прочности и долговременности пребывания на новых ранее необжитых землях.22
Помимо вышесказанного, рассказ о переезде имеет еще одну специфическую функцию, важную как для сюжета, так и для стилистики повествования. Сам факт этого переезда как бы разламывает единый хронотоп существования рода на две части, он оказывается своеобразным рубежом, с которого начинается новая, «историческая» жизнь семьи. Все, что было до переезда, становится или предметом для генеалогических разысканий, или, что особенно важно, оказывается сдвинутым в область преданий, в эпическое прошлое. Все, что происходит после него, существует не как предание, а как живая, относительно недавняя реальность, предмет личных воспоминаний повествователя. При этом описанный разрыв не носит фатальный характер: эпическое прошлое и историческое настоящее, личная память и родовое предание оказываются диалектически взаимосвязанными друг с другом.
Диалектика личной памяти и родового предания является частным проявлением проблемы соотношения, или влияния, неких присущих роду качеств на индивида. Этому есть вполне рациональное и вполне психологически ясное объяснение. Действительно: «у каждого рода есть свои привычки, свои традиции, свои нравственные особенности, свои вкусы, своя нить культуры, связи с историей, свое понимание, и все это властными, хотя (и даже потому что) и бессознательно воспринимаемыми, штрихами определяет душу отдельного члена родов, пересекающих свои влияния в данном лице».23 Более радикальная точка зрения на эту проблему была свойственна архаическому типу мировоззрения, в рамках которого любая отдельная личность воспринималась, прежде всего, как часть ее рода. В литературе подобное отношение к человеку было специфичным в период доминирования морально-риторической системы – прежде всего, для эпохи античности и средневековья – и находило свое выражение в представлении о существовании особой «судьбы рода», детерминирующей поступки каждого из его представителей. Эта, на первый взгляд, вполне абстрактная, идея понималась людьми той эпохи вполне конкретно, как реальное воплощение в потомках личностных качеств свойственных их предкам, как писал о ней Д. С. Лихачев: «Судьба владеет всем родом, к которому принадлежит герой, и представления об индивидуальной судьбе еще не развились. Судьба не была еще персонифицирована, не приобрела индивидуальных контуров. Эти представления о родовой судьбе явны в летописи. Там князя избирают или изгоняют жители Новгорода, сообразуясь с его принадлежностью к определенной княжеской линии. Предполагается, что князь будет идти по пути своих дедов и отца, придерживаться их политической линии». 24
Однако, развивая предложенную логику наследования базовых черт личности от предков, сама «судьба рода» оказывается в значительной мере заложенной в личности одного человека – первопредка, деятельность и даже особенности характера которого оказывают влияние на его потомков. Отсюда – и то особое значение, которое приобрела идея воплощения первопредка, например, в царях и вождях, с которыми связывали благополучие (или, наоборот, беды) племени. «Предок» являлся своего рода воплощением идеи единства рода в целом и семьи в частности; единства, реализуемого в акте наследования, правопреемстве из поколения в поколение. Все это находило разнообразное выражение, как в фольклоре, так и в литературе. Конечно, такой способ изображения личности героя в произведении в чистом виде был возможен лишь в древних и средневековых литературах, но в новое время он иногда снова возрождается уже в качестве своеобразного художественного приема. К примеру, изображение индивидуальной судьбы в контексте судьбы рода и судеб предков может семантически архаизировать стиль произведения.
Среди форм, которые приобретает архетип первопредка, одной из важнейших является «культурный герой». Традиционно это мифический персонаж, сочетающий в себе черты цивилизатора и благодетеля, он добывает или изобретает для людей различные предметы культуры (важнейшие орудия труда, огонь), учит охотничьим приемам, ремеслам, устанавливает справедливые законы и социальную организацию для людей – своих потомков. Деятельность Степана Михайловича Багрова во время переселения и обустройства на новом месте жительства, описываемая С. Т. Аксаковым, во многом соответствует этим функциям: на нем лежала ответственность за поиск подходящих земель, за организацию переезда, руководство при строительстве мельницы и т. д. В дальнейшем, уже освоившись на новых землях, Степан Михайлович выступает в роли попечительного хозяина, справедливого судьи: «Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей, особенно последних, по их незнанию местности, недостатку средств я по разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, которые нередко пускаются на такое трудное дело, не приняв предварительных мер, не заготовя хлебных запасов и даже иногда не имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты всем – бери, что угодно. <...> К этому надо прибавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! Только правдою можно было получить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор: не только ничего не получит, да в иной час дай бог и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором – и свято исполнялись они!» (Аксаков I, 89). В этой деятельности Степан Михайлович принимает на себя основные функции «культурного героя», становясь попечителем слабых и бедных, защитником справедливых обычаев, мудрым старцем и т. д.
В созданном Аксаковым образе Багрова-деда можно выделить и иные важные черты, или, используя термин В. Я. Проппа, «атрибуты»25, которые традиционно связываются с архетипом героя-первопредка. Так, как ни странно, одной из важнейших особенностей характера Степана Михайловича, восходящей к этому архетипу является его гневливость, описанию проявлений которой посвящены многие страницы его книги. То место, которое занимает эта черта характера в художественном образе Багрова-деда, конечно, обусловлена яркостью впечатления, оставшегося в памяти Аксакова, бывшего в детстве свидетелем реальной вспышки гнева своего деда. Недаром воспоминание об этом, нарушая хронологическую последовательность событий, он поместил почти в самом начале своей хроники: «Как теперь гляжу на него: он прогневался на одну из дочерей своих, кажется за то, что она солгала и заперлась в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших от ярости! «Подайте мне ее сюда!» – вопил он задыхающимся голосом» (Аксаков I, 90).
Отвлекаясь от факта реального существования прототипа, сочетание в образе литературного героя Степана Михайловича столь противоречивых черт характера иногда воспринимается как некий парадокс, требующий своего объяснения. Сочетание гневливости характера с отстаиванием принципов справедливости подводит к мысли о наличии в образе Багрова-старшего черт, свойственных хтоническим божествам. К тому же, в пользу соотнесения образа Степана Михайловича с этим архетипом говорит и отмеченная его связь с земледелием. Однако хтонические божества, также являясь модификацией культурного героя, его изнанкой, перевертышем, по определению существа демонические, связаны с силами Хаоса. В же «Семейной хронике» есть герой, который гораздо ярче воплотил в себе их инфернальное начало – это Михайла Максимович Куролесов, несущий в себе черты не просто злодея-самодура, а оборотня: «ему и черт не брат, что он лихой, бедовый, что он гусь лапчатый, зверь полосатый» (Аксаков I, 104), натура которого «воспламеняемая до бешенства спиртными парами, развивалась на свободе во всей своей полноте и представила одно из тех страшных явлений, от которых содрогается и которыми гнушается человечество». «Ужасное соединение инстинкта тигра с разумностью человека» неминуемо должна была войти в столкновение со своим типологическим антиподом, Степаном Михайловичем, а конфликт их может рассматриваться как реализация мотива борьбы героя с враждебной силой.26
Истоки атрибута вспыльчивости в образе Степана Михайловича, как ни странно, лежат в том же архетипе культурного героя. Более того: по мнению Е. М. Мелетинского, именно внешне парадоксальное сочетание черт его характера принадлежит к типичным его особенностям: «Это единство противоположностей в образе героя – его строптивость на фоне эпической гармоничности – важная специфика изучаемого архетипа».27 В истории литературы подобное сочетание распространено исключительно широко, особенно в архаичных формах героического, богатырского эпоса: «Неистовостью отличаются и герои армянского эпоса. «Гнев» строптивого Ахилла – важнейший мотив «Илиады»: гнев этот, как известно, приводит Ахилла к конфликту с верховным базилевсом Агамемноном и к его временному неучастию в боях с троянцами. Неистовы и библейский Самсон, <…>. Строптив и Илья Муромец, который ссорится с князем Владимиром и в гневе сбивает маковки церквей. Страницы французского эпоса заполнены повествованиями о строптивых баронах, совершающих героические подвиги».28 Позднее, перекочевав в литературу, архетип «культурного героя» постепенно утрачивает фольклорный элемент богатырства, и на передний план выходит вспыльчивость, как особенность психологического склада героя. Именно с такой трансформацией мы имеем дело в «Семейной хронике» – тем более, С. Т. Аксаков сам постоянно и настойчиво подчеркивает, что гневливость Степана Михайловича является хоть и важной, но отнюдь не главной чертой его характера, проявляющейся лишь в исключительных ситуациях.
Наверное, это звучит странно, но здесь Аксакову, действительно, повезло: реальный человек Степан Михайлович Аксаков, со своей биографией и личностными особенностями, был рожден, чтобы стать прототипом героя литературного произведения. Даже когда Аксаков балансирует на грани чувства меры, стилизуя его описание под образ былинного героя, там; где при иных обстоятельствах был бы виден лишь затертый романтический шаблон29, на нас смотрит реальный, живой человек: «Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер» (Аксаков I, 76).
Вернемся к рассмотрению атрибутов архетипа «культурного героя» в образе Степана Михайловича Багрова. По мере того как этот архетип развивался и модифицировался в рамках эпической традиции, изначально свойственные герою магические способности начинали играть все меньшую роль. В итоге сложился новый образ богатыря, который способен противостоять волшебным силам, сам, не применяя их.30 В связи с этим стоит обратить внимание на отрицательное отношение Степана Михайловича к различным суевериям и колдовству. В хронике с этим есть довольно примечательный в этом контексте эпизод: «Дедушка вообще колдовству мало верил. Даже стрелял один раз (вынув тихонько дробь) в колдуна, который уверял, что ружье заговорено и не выстрелит; разумеется, ружье выстрелило и крепко напугало колдуна, который, однако, нашелся и торжественно объявил, что дедушка мой «сам знает», чему и поверили все, разумеется, кроме Степана Михайловича» (Аксаков I, 151). Интересно, что этот эпизод помещен Аксаковым не в основном тексте, а вынесен в виде сноски, что, казалось бы, служит своего рода переведению этого эпизода в разряд второстепенных, но, на самом деле, выделяет его на фоне остальных как заслуживающего особого упоминания.31
В мифах культурному герою часто сопутствует его комический дублер – трикстер. В архаичных мифах он функционировал как одна из разновидностей «культурного героя» или его брат-близнец, но со временем этот персонаж эволюционировал и в литературе, чаще всего предстает в образе ловкого плута, иногда исполняющего обязанности слуги. Существенной чертой характера трикстера является его прожорливость, ради удовлетворения которой он готов на всякие проделки; к тому же он не прочь посмеяться над своим хозяином, например, пародируя его.32 В «Семейной хронике» всеми этими признаками наделены пара слуг: Ванька Мазан и Тайначенок. Своими характерами они дополняют друг друга и в проделках выступают как единое целое.33 Нижеследующий эпизод является прекрасной иллюстрацией типичной выходки трикстера и если бы мы не знали об его реальной мемуарной подоснове, то его вполне можно было его принять за фольклорное произведение, довольно распространенный анекдот: «От сна и от жара пересохло у них в горле, захотелось им прохладить горячие гортани господской бражкой с ледком, и вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки: в непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Танайченок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб, разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном, требовал поскорее проснувшемуся барину студеной браги, и, когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, – Мазан указал ей на фигуру Танайченка, сидящего на крыльце в халате и колпаке; нацедили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили по-братски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка» (Аксаков I, 97—98). Итак, поведение Мазана и Тайначенка, которые взаимно дополняют друг друга в этом эпизоде, полностью соответствует тому, как должен поступать и типичный слуга-трикстер. Налицо все основные атрибуты архетипа: и пародирование хозяина, и обжорство, и вороватость, и выдумка и находчивость при совершении обмана. Поведение же Степана Михайловича также полностью следует традиции этого «бродячего сюжета»: «Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было: «Студеной бражки». Перепугались лакеи: Танайченок побежал к ключнице, которая сейчас догадалась, что первый жбан выпили они сами; она отпустила пойла, но вслед за посланным сама подошла к крыльцу, на котором сидел уже в халате настоящий барин. С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Танайченок повалились барину в ноги, и что ж, вы думаете, сделал дедушка?.. Расхохотался, послал за Аришей и за дочерьми и, громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг» (Аксаков I, 97—98).34
Итак, образ Степана Михайловича в «Семейной хронике» содержит целый ряд атрибутов и функций присущих «культурному герою»: его роль как организатора и устроителя жизни на новых местах, носителя власти и нравственного авторитета; такие типологически важные особенности его характера как гневливость и стойкость по отношению к колдовскому воздействию; присутствие рядом слуги-трикстера и др. При этом важно отметить, что архетип «культурного героя» являясь одним из древнейших, имел различные пути развития в разных жанрах фольклора. Те составные элементы, которые присутствуют в образе Степана Михайловича, несут на себе отчетливые следы эволюции в рамках именно эпической традиции, а не, например, сказки.
3. Мотив «наследования» в «Семейной хронике».
Начало и конец текста по определению занимают ключевое место, и семантика их во многом определяет восприятие смысла произведения в целом. Мы обращали внимание на то, что буквально в первых строках «Семейной хроники» появляются мотивы, связанные с категориями родства. Развивая заложенную в идее генеалогической категории родства «вертикальную» временную координату «семейного хронотопа», они направляли внимание читателя в прошлое – к истокам рода, его происхождению и древности. Однако постепенно, по ходу развития сюжета «Семейной хроники» вектор читательского восприятия меняет свое направление к концу произведения, оказываясь развернутым на 180° – в будущее семьи. Происходит это по мере введения в ткань повествования особого мотива – «мотива ожидания наследника», и достигает своей кульминации в логическом его завершении: получении Степаном Михайловичем известия о рождении внука. Итак, круг замыкается, Аксаков почти буквально расставляет все точки над «и»: мотивы, связанные с идеями рода и наследования как бы охватывают произведение, создавая композиционную рамку и семантически маркируя важнейшие, ключевые части текста: его и начало и конец.
Ранее не раз отмечалось, что идея генеалогической категории родства задается преимущественно временной координатой, через наследование от деда через сына к внуку, поэтому уже в силу внутренней логики этого процесса особую роль играет мотив, напрямую связанный с идеей продолжения рода, упомянутый уже нами «мотив ожидания наследника». Хронотоп этого мотива имеет свою, особую специфику, проявляющую себя в том, что по мере включения его в ткань повествования время фабулы и сюжета начинают все более совпадать друг с другом. Как следствие этого, события начинают разворачиваться в строгой хронологической последовательности, направленной к определенной точке – моменту рождения будущего героя. Это особенно ярко заметно на примере «Семейной хроники», где повествование, с точки зрения течения времени заметно распадается на две части. В первом и втором отрывках книги эпизоды, описываемые на соседних страницах, могут быть разделены десятилетиями, более поздние предшествовать ранним и т. д.. Однако начиная с третьего отрывка, момента знакомства Алексея Багрова со своей будущей женой, события начинают описываться с соблюдением их реальной хронологии. Время теперь течет довольно плавно, почти без скачков, до самого момента рождения Багрова-внука, финал книги оказывается одновременно и кульминацией повествования. Эта кульминация, сфокусированная на факте рождения наследника и нового героя, естественным образом «открывает» конец произведения, закладывает потенциальную возможность его продолжения.35 Так, в фольклорной эпической традиции рассказ о рождении нового героя обычно служит своего рода мотивировкой или введением к целой серии повествований о его жизни. Сходным образом «Семейная хроника» точно так же своим окончанием открывает целый цикл его мемуарно-биографических произведений. Как ни странно, именно благодаря наличию этой, казалось бы, второстепенной композиционной особенности «Семейная хроника» оправдывает свое название, становится действительно «хроникой», поскольку в своей структуре воспроизводит специфическое для этого жанра сочетание: линейную хронологию событийного ряда и «открытость конца».
Архетипы предка и потомка тесно связаны между собой: по сути дела, каждый из них не может мыслиться без того, чтобы не подразумевался другой. Не бывает предка без потомков! И наоборот – потомка без предков. Именно в диалектическом единстве архетипов первопредка и наследника реализуется сама идея единства рода – реализуется через акт наследования, которое воспринимается как воплощение в потомках своих предков. Поэтому вполне закономерно, что среди всех героев «Семейной хроники» именно Степан Михайлович больше всех озабочен «судьбой рода». Эта озабоченность, внешне выраженная в повествовании через описание естественных чувств сопутствующих ожиданию рождения внука, находит еще одно свое выражение в присутствии особого, интересного в контексте нашей работы, мотива генеалогической записи о нем в родословной. В произведении этот мотив, как правило, сопутствует мотиву ожидания наследника, по сути дела, сливаясь с ним в единое целое. Недаром финал книги отмечен не просто получением сообщения о рождении Багрова-внука, но глубоко символичным формальным актом вписывания его имени: «Первым движением Степана Михайлыча было перекреститься. Потом он проворно вскочил с постели, босиком подошел к шкафу, торопливо вытащил известную нам родословную, взял из чернилицы перо, провел черту от кружка с именем «Алексей», сделал кружок на конце своей черты и в середине его написал: «Сергей»» (Аксаков I, 279). То, что повествование заканчивается не рассказом об обстоятельствах рождения и не описанием младенца, а эпизодом, когда Степан Михайлович вписывает его имя на родословном древе семьи – не случайность. В рукописях Аксакова сохранился иной вариант финала книги, от которого он отказался по совету Л. Н. Толстого, и в нем еще раз возникает тот же самый мотив: «Для особенно любопытных читателей и читательниц я скажу, что Степан Михайлович прожил еще пять или шесть лет после рождения внука, что он имел удовольствие его видеть и даже благословить за день до своей кончины... Месяцев за семь перед смертью, а именно в июне 1796 года, он был утешен рожденьем второго внука, Николая, что обеспечивало продолжение рода Багровых; имя внука Николая он также собственноручно вписал в свою дворянскую родословную. Степан Михайлович скончался в январе или феврале 1797 года. Арина Васильевна пережила его несколькими годами; она постоянно грустила о своем супруге, грустила, что ей уж некого бояться». Этот отрывок был опубликован С. И. Машинским в примечаниях к «Семейной хронике» (Аксаков I, 616). Останься он в окончательной редакции, финал произведения лишался бы отмеченного нами важного его качества «открытости», оно бы исчезло из-за перенесения акцента с рождения Сережи, героя «Детских лет Багрова-внука», на его брата и упоминания о смерти старших Багровых – также будущих персонажей уже писавшейся книги. Возможно, это послужило одной из внутренних причин, почему Аксаков от него отказался.
Судя по всему, лично для С. Т. Аксакова и идея наследования, и формальное ее закрепление в виде генеалогической записи имели особое значение. Об этом говорит не только регулярное воспроизведение этого мотива в «Семейной хронике» но и факты его личной биографии. Так, в 1832 году он подавал официальный запрос о подтверждении генеалогических данных в Палату родословных дел36, а в архивных материалах сохранилась собственноручная родословная запись Сергея Тимофеевича о рождении первого сына.37 В какой-то мере, не будет особой натяжкой считать, что здесь мы являемся свидетелями процесса формирования литературного мотива.38 Вспомним еще раз одну из формулировок А. Н. Веселовского, согласно которой: «Сюжеты – это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности».39 Мотив генеалогической записи, конечно, имеет непосредственное отношение к бытовой действительности русской помещичьей среды. Он отражает важнейший акт психики, поскольку связан с таким важным для любого человека событием, как рождение ребенка. К тому же, само по себе действие – внесение записи в родословную имеет особое символическое значение, связанное с социализацией этого нового человека, включения его как равноправного члена в систему семейных и шире общественных связей. Наконец, несмотря на универсальность идеи передачи сведений об истории рода, исторически время появления этого мотива в литературе – событие совсем недавнего прошлого, поскольку сам переход от устной формы их бытования к письменной – явление сравнительно позднее. В России широкое распространение такие записи получили лишь на рубеже XVII – XVIII веков после создания в 1682 году Палаты родословных дел.
Однако есть серьезная проблема: можем ли мы говорить о какой-либо реализации мотива, даже частичной, когда функциональным носителем его является не герой, несущий на себе бремя фабулы, а рассказчик, лицо: не принимающее участия на правах персонажа в жизни семьи? В «Детских годах Багрова-внука» авторское «я» формально соотносится с персонажем Сережей Багровым, но в «Семейной хронике» ситуация принципиально иная, а ведь О. М. Фрейденберг, обосновывая принцип взаимозависимости персонажа и сопутствующего ему мотива, подразумевала его активное действенное присутствие в тесте: «В сущности, говоря о персонаже, тем самым пришлось говорить и о мотивах, которые в нем получали стабилизацию; вся морфология персонажа представляет собой морфологию сюжетных мотивов».40Особенности функционирования мотивов в литературном и фольклорном произведениях принципиально различны. Недаром А. Н. Веселовский отказывался применять методы исторической поэтики для современной литературы. Здесь гораздо слабее связь между героем и его мотивной функцией, да и границы между автором и персонажем также очень размыты. Но в случае рассматриваемого нами произведения острота проблемы отчасти снимается благодаря наличию мемуарно-биографической составляющей в авторской позиции. Для мемуарного произведения характерна специфическая взаимозаменяемость позиций автора и героя, механизм которой так был очерчен М. М. Бахтиным: «Рассказывая о своей жизни, в которой героями являются другие для меня, я шаг за шагом вплетаюсь в ее формальную структуру (я не герой своей жизни, но я принимаю в ней участие), становлюсь в положение героя, захватываю себя своим рассказом; формы ценностного восприятия других переносятся на себя там, где я солидарен с ними. Так рассказчик становится героем».41
Именно такое взаимопревращение автора в персонажа имеет место и в «Семейной хронике»; тому в значительной мере способствует ряд эмоционально насыщенных эпизодов, основанных на личных воспоминаниях повествователя. Некоторые из них носят иллюстративный характер, вводятся ради воссоздания зримого образа персонажа или события через взгляд очевидца – как, например, описание гнева Степана Михайловича, – но ядро их составляют специфические «аксаковские» зарисовки природы и быта. Учитывая же еще и то, что прототипами героев являются его близкие, отмеченная эмоциональная вовлеченность автора, накладывающая определенный отпечаток и на его точку зрения, и на стилистику текста, создает у читателя ощущение присутствия рассказчика в качестве действующего лица. Таким образом, важной особенностью «Семейной хроники», в сравнении ее с «Детскими годами Багрова-внука» и другими мемуарно-автобиографическими произведениями Аксакова, является то, что повествователь оказывается включенным в генеалогическую вертикаль родства, и на этой вертикали, с точки зрения и внутренней хронологии, и причинно-следственных связей произведения, он исполняет роль потомка, в котором реализуется телеология, смысл существования всего рода – роль наследника. Иными словами, в них через авторское слово реализует себя архетип «наследника».
4. Свадебный мотивный комплекс в «Семейной хронике»
Архетипы предка и наследника связаны с реализацией вертикальной, временной координаты генеалогической связи, но здесь важно сделать существенное дополнение: это происходит, когда оба они – мужчины. Исторически сложилось так, что изначально женщины в генеалогических записях вообще не учитывались: к примеру, древнейшие русские родословные назывались «Росписи мужских потомков». В рамках патриархальной культуры женщина продолжателем рода не является, и выражение «Авраам родил Исаака», т. е. мужчина родил мужчину, с точки зрения той логики, не просто не входит в конфликт со здравым смыслом, но даже и легкого оттенка парадоксальности на себе не несет. Роль женщины не продолжать род, а быть связующим звеном между разными родами; судьба ее – уйти из дома отца в дом мужа. Так, через ее замужество, реализуется пространственная координата родословия. В своей работе, посвященной генеалогии, свящ. П. А. Флоренский так пишет об этом: «Род (отец, сын) есть время, осуществленное через последовательность трех поколений. Жена есть пространство».42 Своеобразную иллюстрацию этой идеи, но выраженную уже не философским языком, а бытовым, можно обнаружить в «Семейной хронике»: «Итак, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетных дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что. «Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда – Алексей...»» (Аксаков I, 76). Женщина – не наследница настолько, что даже внесение ее имени в родословную является лишь факультативной формальностью. В «Семейной хронике» есть замечательная иллюстрация этому: эпизод, в котором Степан Михайлович узнает о том, что у него рождается не внук, а внучка: «По разумности своей старик очень хорошо знал, что гневаться было не на кого; но в первые дни он не мог овладеть собою, так трудно ему было расстаться с сладкою надеждой, или, лучше сказать, с уверенностью, что у него родится внук и что авось не погибнет знаменитый род Шимона. Он велел убрать с глаз, спрятать подальше родословную, которая уже лежала у него на столе, в ожидании радостного известия, и в которую он всякий день собирался внести имя внука» (Аксаков I, 256).
Рассмотренные нами ранее мотивы и архетипы преимущественно были соотнесены с типом генеалогической связи, обозначенным о. П. А. Флоренским через понятие «родство». Теперь мы подступаем к архетипам и мотивам, реализующим горизонтальную, пространственную координату, формирующуюся посредством брака и определяемую им посредством понятия «свойствó».
Сватовству и браку в литературе практически всегда сопутствуют перемещения в пространстве. Ярче всего эта связь обнаруживает себя в фольклоре. В сказках свадьбе обычно предшествуют длительные путешествия героя в поисках невесты. Эти поиски сопровождаются различными приключениями, опасностями и испытаниями, в которых выявляется истинный характер героя. По сути дела, эти путешествия играют в ней определяющую роль, поскольку, по лаконичному определению Проппа, «композиция сказки строится на пространственном перемещении героя».43 Да и сама традиционная обрядовая форма свадьбы тоже, в значительной мере, связана с идеей перемещения, что проявляется в плане символическом через мотивы перехода из одного мира в другой, а в реальной жизни через уход невесты из семьи родителей в семью мужа.44 Наконец, те или иные предшествующие свадьбе перемещения в пространстве широко распространены и в беллетристике, так скитания героя в чужом мире среди чужих людей предшествуют обретению идиллического семейного мирка в английском семейном романе45.
Выше отмечалось, что тематика семьи, в своей основе, держится на взаимном переплетении генеалогических связей «родства», как родовых отношений предков с потомками и «свойства» как следствия брака. Отсюда необходимым условием существования «семейного хронотопа» оказывается внутреннее равновесие в нем пространственной и временной координат. Мы уже видели, насколько значительна роль мотивов, связанных с категорией «родства», в произведениях с семейной тематикой. К тому же, она приобретает еще и дополнительный вес за счет мощного влияния, оказанного в свое время на них идиллией. Поэтому достигнуть искомого внутреннего равновесия семейного хронотопа можно лишь через введение мотивных комплексов, реализующих пространственные, горизонтальные связи человеческих отношений; два из них, наверное, наиболее эффективны в этом отношении. Первый включает в себя набор архетипов и мотивов, связанных с идеей брака – как, например, архетипы жениха (мужа) и невесты (жены), а также разнообразные мотивы, сопутствующие обряду свадьбы: поиск женихом невесты и преодоление возникающих в ходе него препятствий. Второй широко распространенный мотивный комплекс, позволяющий компенсировать недостаток горизонтальной составляющей семейного хронотопа, непосредственно связан с самим процессом перемещения в пространстве: с переездами, путешествиями и, наконец, со знаменитой «метафорой жизненного пути».46 В своих мемуарно-биографических произведениях Аксаков, для достижения искомого внутреннего равновесия, задействует оба указанных мотивных комплекса: первый используется преимущественно в «Семейной хронике», а второй – в «Детских годах Багрова-внука».47
Введение в повествование свадебного мотивного комплекса неизбежно сказывается на системе пространственных отношений. Сюжетное пространство по необходимости оказывается разделенным надвое: на локус жениха и локус невесты. В «Семейной хронике» они максимально разъединены, представляя собой два замкнутых в себе пространства: Новое Багрово и Уфу, резко разграниченных и композиционно, и идеологически. Композиционный разрыв между локусами проявляет себя резкими переключениями в рассказе о событиях, одновременно происходящих в них. Иногда мотивируются авторскими ремарками, как, например: «Оставим Багрово и посмотрим, что делается в Уфе» (Аксаков I, 161). Идеологический разрыв проходит в силу упомянутой разницы типов мировоззрений персонажей, которые Э. Дуркин определяет как городской (city) и деревенский (country).48 Почти столь же резкое разграничение локусов мы обнаружим и в другом отрывке хроники, посвященном женитьбе Куролесова. Там это – Троицкое и поместье Куролесовых.
Во время сватовства центральное место приобретает локус невесты, поскольку вокруг него сконцентрированы действия жениха. В свою очередь, на втором этапе центром сюжетного развития становится локус бывшего жениха – теперь уже мужа – в связи с процессом включения жены в систему родовых отношений и определения ее места в них.49 Идеальным итогом произведения, внутренней его интенцией, является полное слияние двух родов со всеми присущими им особенностями в единое целое, поскольку, «противостоя внутренним причинам этих различий между городом и деревней, брак становится метафорой уничтожения или нейтрализации этих различий».50 Достижима ли эта «нейтрализация»? Дальнейшие события, описанные в «Семейной хронике», да и сама внелитературная история семьи Аксаковых показывают, что, увы, недостижима. Однако, как говорится, нет худа, без добра: подспудное осознание невозможности преодоления внутрисемейных проблем, их принципиальной неразрешимости, покоясь в глубинном основании идейного содержания всей мемуарно-биографической трилогии Аксакова, создает, в итоге, столь необходимые для любого новоевропейского романа внутренний конфликт и сюжетное напряжение.
Алексей Степанович Багров и Софья Николаевна Зубина становятся реально действующими персонажами лишь в 3-м отрывке «Семейной хроники». Этот отрывок посвящен почти исключительно предыстории их свадьбы, и вполне естественно, что в структуре образов должны были найти свое выражение черты архетипов «жениха» и «невесты». По этой причине главной проблемой является не факт наличия этих архетипов, а художественные формы их реализации. Так, Э. Дуркин в своей монографии обращает внимание на присутствие в образе Софьи Николаевны характерных черт сказочной невесты, в вариантах Золушки и волшебницы, а в Алексее Степановиче – моделей, восходящих к традиции сентиментально-авантюрного романа.51 Действительно: в своей книге Аксаков, по сути дела, «обнажает прием», объясняя некоторые поступки своего отца влиянием на него таких романов. В частности, когда речь идет о стилистических заимствованиях из них в его письмах: «Алексей Степаныч, много наслышавшись об Аничкове, вздумал написать витиевато, позаимствовался из какого-нибудь тогдашнего романа и написал две страницы таких фраз, от которых, при других обстоятельствах, Софья Николавна расхохоталась бы,..» (Аксаков I, 175). Однако, мотивируя поведение Софьи Николаевны, Аксаков тоже иногда прибегает к помощи чисто книжных моделей – например, руссоистской: «Мысль воспитать по-своему, образовать добродушного молодого человека, скромного, чистосердечного, неиспорченного светом – забралась в умную, но все-таки женскую голову Софьи Николавны. Ей представилась пленительная картина постепенного пробуждения и воспитания дикаря, у которого не было недостатка ни в уме, ни в чувствах, погруженных в непробудный сон, который будет еще более любить ее, если это возможно, в благодарность за свое образование» (Аксаков I, 167).
Что касается образа Софьи Николаевны, то более подробно рассматривает его связи с фольклорными сюжетами в своей диссертации Н. Г. Николаева. Она обнаруживает в истории женитьбы молодого Багрова важные составные элементы мифологического сюжета о поиске героем мудрой невесты, и последующей женитьбе на ней, анализируя в связи с этим целый ряд важнейших мотивов. Так в завязке повествования Алексей Степанович, сочетающий в себе функции сказочного Иванушки-дурачка и мифологического героя, отправляется в чужие края (Уфу).52 Там он влюбляется в «красавицу-волшебницу» Софью Николаевну. Но на пути героя встает целый ряд препятствий, успешно преодолеть которые ему помогает «волшебный помощник» – Алакаевна.53 Наконец наступает ключевой момент сватовства – встреча жениха с будущим тестем, в ходе которой, в соответствии с логикой сказочного сюжета, происходит самое важное: испытание героя, которое он преодолевает лишь с помощью магических сил своей невесты. В «Семейной хронике» в период своего сватовства Алексей Степанович четырежды встречается со старшим Зубиным, каждый раз производя на него неблагоприятное впечатление, которое удается изменить лишь благодаря хитрости и «чародейству» Софьи Николаевны: «Второе посещение не поправило невыгодного впечатления, произведенного первым; но при третьем свидании присутствовала Софья Николавна, которая, как будто не зная, что жених сидит у отца, вошла к нему в кабинет, неожиданно воротясь из гостей ранее обыкновенного. Ее присутствие все переменило; она умела заставить говорить Алексея Степаныча, знала, о чем он может говорить и в чем может выказаться с выгодной стороны его природный, здравый смысл, чистота нравов, честность и мягкая доброта. <…> Когда Алексей Степаныч ушел, старик обнял свою Сонечку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нежными именами, назвал между прочим чародейкой, которая силою волшебства умеет вызывать из души человеческой прекрасные ее качества, так глубоко скрытые, что никто и не подозревал их существования» (Аксаков I, 171). Приведенный отрывок сам по себе примечателен, поскольку, кроме прочего, он замечательно иллюстрирует способность Аксакова сочетать традиционализм, «память жанра», восходящую к древнейшей архаике, с документальной фактографичностью описываемых событий.
История женитьбы молодого Багрова, являясь составной частью «Семейной хроники», по мнению Н. Г. Николаевой, укладывается в общую сюжетную схему, восходящую к комплексу мифов творения и обновления: «Итак: сюжет С[емейной] Х[роники] связан темой «собирания семьи». Он представляет собой последовательное развертывание мифа от сакрально-эпического ядра творения первого поколения Багровых, через профанное снижение второго поколения (в образе слабого сына) к обновлению рода через его женитьбу на чудесной невесте и дальнейшему воссозданию, собиранию мира в сознании маленького Сережи».54 Хотелось бы сделать, однако, пару замечаний относительно образа Багрова-сына. Действительно: в 3-м отрывке «Семейной хроники» Алексей Степанович предстает пред нами как человек слабого характера, недостаточно образованный даже по меркам провинциального уфимского общества. Сам Аксаков неоднократно подчеркивает в нем присутствие этих черт, но свидетельствует ли все это о вырождении рода? Отмеченные же нехватка образования и застенчивость – это, скорее, следствие его деревенского воспитания и молодого возраста. Какое бы, к примеру, впечатление производил на его месте, оказавшись один, в городской, чиновничьей среде его отец – человек сильного характера? При всей условности любых предположений, скорее всего, он выглядел бы таким же малообразованным и потерянным, как и любой, оказавшийся в малознакомом обществе, среди людей не своего круга.
Н. Г. Николаева убедительно выявила в образе Алексея Степановича целый ряд атрибутов, свойственных, прежде всего, сказочному герою. Заметим: именно сказочному, а не эпическому. Разница здесь имеет принципиальный характер. Хотя оба типа героев своими корнями уходят в общее мифологическое прошлое, в обоих присутствуют элементы, связанные с сюжетами творения, преображения мира и с обрядом инициации, дальнейшая история развития жанров трансформировала их в разных направлениях. В эпосе на первый план вышли мотивы творения, родовое и героическое начала, а в сказке, испытавшей сильное влияние со стороны «переходной» обрядности (брак, инициация) – начало индивидуально-бытовое.55 В итоге все это наложило специфический отпечаток и на образ героя – с точки зрения его возрастной характеристики. Эпический герой в пору своей деятельности по устроению мира предстает перед слушателем, читателем либо как вполне взрослая, сложившаяся личность, либо вообще безотносительно к своему возрасту. В свою очередь, для сказочного героя принципиально то, что мы застаем его в переходный для него момент возмужания. Ведь именно в этот период совершался обряд инициации, да и браки заключались в архаических обществах, как известно, по нашим меркам, довольно рано.
Алексей Степанович – такой, каким мы его встречаем в «Семейной хронике» – несмотря на свой двадцатисемилетний возраст, во многом еще остается подростком. Родители и сестры относятся к нему как к большому ребенку. Непонимание же им мотивации людских поступков и общих правил поведения имеет место не только в отношении к городскому обществу, но и к членам собственной семьи. Он пока еще не понимает подсказанных жизненным опытом советов «умной старухи» Алакаевны (Аксаков I, 147), и не видит подоплеки интриг приехавших на свадьбу сестер. Но, с другой стороны, Алексей Степанович довольно быстро учится и, с точки зрения сюжета, можно, наверное, сказать, что события 3-го отрывка – это не только рассказ о женитьбе молодого Багрова, но и история его взросления. А то, что это действительно история взросления, подтверждает, кроме прочего, присутствие в ней мотивных элементов инициации в форме рассказа о смерти и воскресении героя. Так, приехав из Уфы домой в деревню и встретив открытое неприятие его намерений жениться на Софье Николаевне со стороны всех родных, Алексей Степанович серьезно заболевает. Болезнь быстро прогрессировала: «через неделю он лежал в совершенной слабости и в постоянном забытьи: жару наружного не было, а он бредил и день и ночь. <…> ему становилось час от часу хуже, и, наконец, он сделался так слаб, что каждый час ожидали его смерти» (Аксаков I, 155). Но далее, в соответствии с логикой развития мифологического сюжета, смерть упраздняется воскресением: «и ровно через шесть недель Алексею Степанычу стало полегче. Он проснулся к жизни совершенным ребенком, и жизнь медленно вступала в права свои; он выздоравливал два месяца; казалось, он ничего прошедшего не помнил» (Там же). Отмеченная же здесь детскость теперь уже носит лишь поверхностный, внешний характер, возрождение к жизни символизировало начало реального возмужания личности героя: «Через несколько месяцев после отъезда Алексея Степаныча из деревни вдруг получили от него письмо, в котором он с несвойственной ему твердостью, хотя всегда с почтительной нежностью, объяснил своим родителям, что любит Софью Николавну больше своей жизни, что не может жить без нее, что надеется на ее согласие и просит родительского благословения и позволения посвататься» (Аксаков I, 155—156).
Выше мы уже вскользь упоминали о специфической особенности сказки с точки зрения разработки сюжета брака. В силу архаичности этого жанра, сохраняющего реликты матриархального способа организации семьи, свадьба в ней понимается не как переход жены в род мужа, а, наоборот, как приход мужа в род жены.56 С точки зрения формирования пространственной составляющей «семейного хронотопа», большую роль это различие не играет, зато оно может оказывать некоторое влияние на типологию персонажей и связанную с ней мотивную организацию произведения. В частности, целый ряд атрибутов и функций отца невесты, порожденных отмеченной спецификой сказочного сюжета, оказываются архетипичными для образа Николая Федоровича Зубина. С одной из них мы уже сталкивались: это отрицательное отношение к жениху и, как следствие – препятствование замужеству дочери. Исторически этот мотив был связан с архаичным обычаем престолонаследия: когда новый царь должен был убить старого после женитьбы на его дочери, но, как отмечает В. Я. Пропп, в период формирования жанра волшебной сказки эта мотивация уже была забыта и, чтобы объяснить неприязнь тестя к зятю, в рассказ вводятся фигуры всякого рода клеветников.57 Функцию последних явно несет любимец Николая Федоровича, слуга Калмык, который, пытаясь удержать узурпированную им власть в доме, используя свое влияние на хозяина, настраивает его против молодых супругов.
Наконец, архетипична в образе Зубина его сама старость, сопровождаемая болезнями, дряхлостью и утратой власти над домом. Архетипична, поскольку, в соответствии с логикой развития сказочного сюжета, «возраст, болезнь, немощи служили стимулом для замены царя».58 Из этого, как следствие, получается, что именно род невесты, а не жениха оказывался в состоянии упадка и нуждался в обновлении. И каковы бы ни были индивидуальные особенности характера Алексея Степановича, в соответствии с этой логикой, именно он является носителем мотивной функции героя-победителя, поскольку ему «…зятю, разрешившему «трудную задачу» и тем доказавшему свою силу»59 передается власть в «царстве». Пространственно царство это соотносится с локусом невесты (в «Семейной хронике» – с Уфой), и как ни странно, передача власти в нем носит отнюдь не метафорический характер, ведь сам старший Зубин, занимая довольно высокое место в чиновничьем мире губернии, перед своей кончиной успевает составить протекцию зятю: «Я забыл сказать, что по ходатайству умиравшего старика Зубина, незадолго до его смерти, Алексея Степаныча определили прокурором Нижнего земского суда» (Аксаков I, 268). Так, снова в соответствии именно со сказочной логикой развития сюжета, «воцарение героя» совпадает во времени со «смертью царя» – отца невесты.
Наличие целого ряда соответствий в мотивно-сюжетной структуре «Семейной хроники» и волшебной сказки – явление вполне объяснимое. В конце концов, и там и там тематическое ядро составляют семейные отношения, в своих глубинных основаниях мало подверженные изменениям. Однако бывают и исключения. Мы уже отмечали, что условия бытования мотивов в рамках устной и книжной традиции имеют существенные отличия, а значит, включаясь в структуру литературного произведения, фольклорный по своему происхождению мотив часто может вступить в конфликт с внутренней логикой развития сюжета. Дело в том, что сама его внутренняя структура в значительной степени определяется формами психической, социальной и вообще бытовой, повседневной жизни людей (мы уже не раз вспоминали замечания об этом А. Н. Веселовского). Формировался мотив в свое время, в своей среде и в рамках своего жанра, но неисповедимые пути литературной традиции привели его в художественное произведение совсем иной эпохи и культуры. Подобная ситуация складывается в «Семейной хронике» с мотивом испытания, имеющим мифологические и сказочные корни. В своей монографии Э. Дуркин указал на своеобразный внутренний надлом в ее сюжете, когда «образ героини волшебной сказки в Софье Николаевне, подвергается модификации в центральном событии 3-го отрывка, формальном предложении руки Алексеем Степановичем. Жизнь оказывается неадекватной сюжету волшебной сказки <…> Трудности которые в волшебной сказке разрешаются заключением брака, фактически только начинаются для Софьи Николаевны».60 По мнению исследователя, с этого момента происходят значительные изменения в авторской позиции повествователя, а мотивации поступков героев начинают носить более прагматичный характер: «…образные связи Софьи Николаевны со сказкой и волшебством почти полностью исчезают, сам факт наличия в ней этих сил остается, но теряет метафорические или оккультные качества».61
То, что именно этот момент в сюжете «Семейной хроники» стал переломным, отнюдь не случайно. Камнем преткновения здесь становится наличие мотива испытания: очень специфичного в силу присущей ему внутренней неоднородности. Поскольку переход этого мотива из фольклора в литературу сопровождался определенным сдвигом в идейной структуре и изменениями в содержании, то в итоге возникли две разновидности, зависящие от формы его бытования – устной или письменной. Исследуя художественные особенности «Повести о Петре и Февронии», Н. С. Демкова обратила внимание на существенные различия между ними: «Напомним об отличии в развитии сюжета Повести от эпической традиции: в сказке (и эпосе) испытания предшествуют свадьбе, в «Повести о Петре и Февронии» испытания также предшествуют свадьбе, но, согласно авторской воле, они продолжаются и далее – в соответствии с христианским осмыслением мотива свадьбы как окончательного духовного соединения героев, наступающего только после их смерти».62 Как мы видим из содержания «Семейной хроники», в ней представлен именно литературный вариант этого мотива. Испытания, которым подвергаются отношения Алексея Степановича и Софьи Николаевны на протяжении их знакомства и подготовки к свадьбе, не только продолжаются и после нее, но даже и усиливаются. Кроме того, хотя в повествовании отсутствует понимание идеи «свадьбы как окончательного духовного соединения героев, наступающего только после их смерти», все же внутреннее осмысление возникающих проблем со стороны героини носит чисто религиозный характер. Борьба, которая предстоит Софье Николаевне после замужества, оказывается, направлена не столько против интриг будущих невесток или недостаточной светскости жениха, сколько против себя самой, недостатков своего характера. В этом коренится именно христианское понимание смысла испытаний, которое становится еще более заметным, на фоне эмоционального и мистически настроенного характера Софьи Николаевны. Хорошим примером этого служит описание С. Т. Аксаковым ее сомнений накануне свадьбы: «Целая жизнь, долгая жизнь с мужем-неровней, которого она при всей любви не может вполне уважать, беспрестанное столкновение совсем различных понятий, противоположных свойств, наконец частое непонимание друг друга... и сомнение в успехе, сомнение в собственных силах, в спокойной твердости, столько чуждой ее нраву, впервые представилось ей в своей поразительной истине и ужаснуло бедную девушку!.. Но что же делать? Неужели разорвать свадьбу пред самым венцом, поразить своего умирающего отца, привыкшего к успокоительной мысли, что его Сонечка будет счастлива за добрым человеком? <...> «Нет, не бывать тому! Бог поможет мне, Смоленская Божия Матерь будет моей заступницей и подаст мне силы обуздать мой вспыльчивый нрав...» Так думала и так решила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость» (Аксаков I, 186). Некоторую параллель между «Повестью о Петре и Февронии» и «Семейной хроникой» можно проследить и в том, что одной из самых сложных проблем из тех, с которыми сталкиваются героини этих произведений, оказывается враждебность к ним со стороны близких их мужей: бояр в «Повести…» и невесток – в «Хронике…». И, конечно, здесь вряд ли можно говорить о той или об иной форме заимствования: перед нами, скорее, свидетельство глубинного типологического сходства сюжетов.
5. Мотив распри в «Семейной хронике».
Невозможно рассматривать тематику семьи в любом произведении новоевропейской литературы – тем более, в тесной связи с особенностями пространственно-временной организации «снующихся» в нем мотивов, не затронув хотя бы вскользь вопроса о влиянии на него идиллии. Столь же невозможно обойти эту проблему стороной и при изучении творчества С. Т. Аксакова63 в целом и «Семейной хроники» в частности. Очень тщательно она была исследована Э. Дуркиным, который даже вынес ее в заглавие своей книги: «Sergei Aksakov and Russian Pastoral». Именно в идилличности, пасторальности он видел фундаментальную особенность аксаковского творчества.64
Идиллия занимает уникальное место в культуре, оказывая сильнейшее влияние на литературный процесс, при этом оставаясь на протяжении всей своей истории на периферии или в тени других жанров. Те ее черты, которые вышли в ходе ее исторического развития на первый план и которые мы уже не раз упоминали в нашей работе: идеализация сельского образа жизни, сентиментальность в изображении переживаний, условность пейзажа и быта уютного уголка «locus amoenus» – не исчерпывают всех художественных средств, заложенных в памяти жанра. Ведь изначально идиллиям ее основоположника Феокрита были свойственны, наоборот, достоверность и сочность бытовых подробностей, пространственная определенность и соотнесенность с реальным пейзажем: в том случае горной Сицилии, яркость эмоциональных переживаний, эротичность. 65 Наконец, внутри идиллии была выработана целая система тесно связанных между собой мотивных комплексов. Большинство из задействованных в них мотивов имеют фольклорное происхождение, и восходят к разным жанрам обрядовой и лирической песенной поэзии, но, оказавшись в идиллии, они зачастую приобретали совершенно новое осмысление и образовывали целый ряд очень специфичных и необычных сочетаний, вне нее редко встречающихся. К примеру, совершенно особую интерпретацию приобрел в ней знакомый нам мотив ожидания наследника. В IV эклоге «Буколик» Вергилий связывает со скорым рождением некоего ребенка наступление новой эпохи, «золотого века». Имя ребенка не названо, но космический масштаб описанного преображения мира позволил позднее истолковать это стихотворение как пророчество о рождении Христа, и небольшое по объему стихотворение породило многовековую традицию толкований и подражаний.66
В свое время М. М. Бахтин отметил, что «семейная идиллия в чистом виде почти не встречается».67 Действительно: как это ни странно на первый взгляд, но само по себе выражение «семейная идиллия» парадоксально, поскольку содержит скрытое противоречие. Дело в том, что идиллическое начало, несмотря на всю его близость по предмету изображения, оказывается структурно инородно семейной теме, поскольку пространственно-временная организация идиллического и семейного текста принципиально различны. Структура идиллического хронотопа выстраивается через усиление его временной составляющей и ослабление пространственной. Это естественное следствие закрытости идиллического мира, его отгороженности и прикрепленности к одному месту, приводящей к редукции пространственных категорий и, одновременно, особой роли в нем мотивов, связанных с понятиями «рода», «наследования», восходящих к временной координате генеалогической связи.68 В свою очередь, принципиальной особенностью семейного хронотопа является стремление к равновесию его пространственно-временных составляющих. «Семейная хроника» Аксакова нам наглядно являет, что для достижения этого равновесия оказывается необходимо преодолевать, кроме прочего, еще и то сильнейшее дополнительное влияние, которое на протяжении многовековой истории развития жанра идиллия оказала на роман, а через него – и на мемуаристику. Влияние это разнообразно, и проникая собой все уровни текста, неизбежно вступает в противоречие с иными наличествующими в нем пространственно-временными структурами и мотивными комплексами. Проявление возникающего из-за этого внутреннего напряжения можно проследить на примере рассказа о свадьбе Алексея Степановича и Софьи Николаевны – сюжета, мотивная система которого тесно связана с пространственной составляющей семейного хронотопа.
Сюжетное пространство в «Семейной хронике», как уже было отмечено, распадается на два замкнутых в себе локуса, резко разграниченных и композиционно, и идеологически. Жизнь в Новом Багрово полностью замкнута в границах ближайших окрестностей, ограничена территорией усадьбы да поместьями родственников и соседей. Другим местом, где развивается действие основного повествования, является Уфа, но она настолько удалена, что воспринимается как совершенно другой и тоже замкнутый в себе мир. Все события, предшествующие венчанию героев, излагались Аксаковым с большой тщательностью и, казалось бы, дальнейшее повествование о свадьбе не могло обойтись без рассказа о подробностях переезда молодых на родину мужа – особенно, если учесть, что свадьба происходит в Уфе, а следующие за ней события, также расписанные буквально по дням и часам, – уже в деревне. Вообще, описание поездки с искусно вплетенными в нее пейзажными, бытовыми и портретными зарисовками – один из излюбленных сюжетов Аксакова, а, в частности, «Детские годы Багрова-внука» можно рассматривать как травелог. Однако в данном случае Аксаков опускает его, меняя в повествовании пространственную координату на временную. Рассказ почти мгновенно переносится из Уфы в поместье – без каких бы то ни было описаний обстоятельств переезда. Вместо них Аксаков подробно изображает ожидание молодоженов в Новом Багрово, продолжавшиеся несколько дней хлопоты по подготовке встречи и, наконец, сам приезд молодых, которым заканчивается 3-й отрывок хроники. Следующая глава стилистически продолжает финал предыдущей, а сосредоточенность на обрядовой и бытовой сторонах встречи и празднований окончательно замыкает повествование не только в пределах поместья, а почти в стенах дома.69 Лишь чуть позже эта пространственная замкнутость будет отчасти компенсирована за счет рассказа о поездках к родственникам – рассказа типично аксаковского, с подробными описаниями степной природы. Но все же, по большому счету, внутреннее противоречие между семейным и идиллическим хронотопами внутри данного эпизода «Семейной хроники» снимается в пользу последнего. Сходным образом происходит ослабление пространственной составляющей, мотивного комплекса свадьбы и в отрывке «Михайла Максимович Куролесов».
Исторически сложилось так, что идиллия, пережив свой второй, после античности, расцвет в эпоху Сентиментализма, покинула узкие жанровые рамки пасторали, став своеобразной формой мирочувствия. Движение ее в этом направлении стало заметно уже в конце XVIII века, свидетельством чего является замечание В. фон Гумбольдта: «Словом «идиллия» пользуются не только для обозначения поэтического жанра, им пользуются также для того, чтобы указать на известное настроение ума, на способ чувствования».70 Идиллия стала, по сути дела, синонимом счастливой, безмятежной жизни на лоне природы, искренних и бесконфликтных человеческих взаимоотношений. Сдвиг этот, ознаменовавший собой вершину развития ее как жанра, конечно, способствовал усилению ее влияния на остальную литературу, но одновременно подготовил почву для внутреннего саморазрушения. Разрыв, наметившийся между мотивно-сюжетной структурой идиллии, почти канонизованной в течение многовековой истории и генетически связанной с ней специфичной формой мировосприятия, не мог не заявить о себе в творчестве Аксакова, учитывая и то, какую роль в нем играет семейная тема, и ту, свойственную ему как автору, глубинную интенцию преодоления сентиментализма, о которой мы писали в первой части нашей работы.
Существует мотив, играющий важную роль в создании художественного образа семьи как единого целого, но связанный с таким вполне обыденным, но отнюдь не приятным явлением как семейная распря, раздор. В отличие от рассмотренных нами выше мотивов и архетипов, восходящих к категориям «родства» и «свойства» и уже в силу этого связанных с идеей единства, распря утверждает эту идею иным образом – так сказать, «от противного». Как ни странно, угрожая самому существованию семьи, она помогает ощутить ее самоценность, важность объединяющего начала. Наличие родственных конфликтов оказывается диалектически связано с идеей внутренней целостности семьи, что, несомненно, осознавалось Аксаковым, но одновременно он же является главным способом преодоления идиллического мирочувствия, неизбежно возникающего как побочный продукт семейных хронотопа и мотивной системы. «Семейная хроника», неся в своей поэтике целый набор формальных жанровых признаков, все же лишена двух главных идейных составляющих новоевропейской идиллии: внутренней бесконфликтности и статичности мира. Статичность, цикличная повторяемость реалий повседневной жизни, разрывается вспышками гнева свойственных Степану Михайловичу Багрову; идиллическая простота и естественность чувств, которые должны были бы умиротворять нравы и утишать страсти, оборачивается социальной и личностной деградацией Куролесова. Именно здесь и лежит идейный конфликт произведения: внешне вполне идиллический мир, в котором обитают герои, оказывается, скрывает жизнь полную необузданных страстей.
Благодаря своей внутренней динамичности мотив распри очень легко принимает на себя сюжетообразующую роль: в «Семейной хронике» конфликты между родственниками и желание избежать многочисленных столкновений с соседями были основной причиной переезда на новые земли. Мотив распри играет ключевую роль в сюжете отрывка «Михайла Максимович Куролесов»; конфликт Софьи Николаевны с невестками также составляет одну из основных сюжетных линий книги. Описание раздоров помогает выявить основные архетипические черты в главных героях произведения. Именно во время конфликтов проявляется такая черта характера Степана Михайловича, как гневливость. Он, пытаясь остановить распрю, начинает действовать в соответствии с ролью «культурного героя» устанавливающего законы, наказывающего виновных, восстанавливающего справедливость и т. д. Разрушение единства семьи может происходить по обеим осям генеалогических связей. Характерной особенностью «Семейной хроники» является то, что в ней конфликт между невесткой и родными мужа подрывает горизонтальные. Аксаков дает очень характерное для него психологическое объяснение причин этих раздоров: «Дело известное, что в старину (я разумею старину екатерининскую), а может быть, и теперь, сестры не любили или очень редко любили своих невесток, то есть жен своих братьев, отчего весьма красноречиво называются золовками; еще более не любили, когда женился единственный брат, потому что жена его делалась безраздельною, полною хозяйкою в доме. В человеческом существе скрыто много эгоизму; он действует часто без нашего ведома, и никто не изъят от него; честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренне приписывают их иным, благовидным причинам: обманывают себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бесцеремоннее» (Аксаков I, 148).
Однако, как нам кажется, в данном случае нужно еще учитывать то обстоятельство, что в рамках патриархального сознания горизонтальные связи «свойствá» оцениваются как заведомо менее значимые и крепкие, чем «родовые» вертикальные, а значит, даже после заключения брака они требуют дополнительного подтверждения и укрепления. Невестке еще предстоит доказать, что новые родственные связи для нее действительно будут иметь большее значение, чем прежние. В этом коренится настойчивая потребность включения в родовую вертикаль со стороны Софьи Николаевны, и очень показателен в этом отношении ее разговор со Степаном Михайловичем: «Послушай, милая моя невестушка, – сказал он подумавши, без гнева, но с важностью, – ты такая умница, что я скажу тебе правду без обиняков. Я не люблю ничего держать на душе. Послушаешь – ладно, не послушаешь – как хочешь: ты мне не родная дочь. Мне не по нутру, что ты называешь мужа Алексей; у него есть отчество. Ты ему не мать, не отец. Ведь ты и слугу стала бы звать Алексей. Жена должна обходиться с мужем с уваженьем; тогда и другие станут его уважать. <…> Я еще молода, батюшка. Меня некому было поучить: отец мой шестой год лежит в постели. Я переняла такое обращенье с мужем у других. Вперед этого никогда не будет не только при вас, но и без вас. Батюшка, – продолжала она, и крупные слезы закапали из ее глаз, – я полюбила вас, как родного отца; поступайте со мной всегда, как с родной дочерью; остановите, побраните меня, если я провинюсь в чем-нибудь, и простите, но не оставляйте на сердце неудовольствия» (Аксаков I, 204—205). В итоге взаимопонимание между свекром и невесткой оказывается достигнуто.71 Со стороны же матери и сестер Алексея Степановича эти попытки его невесты (жены) стать своей, включиться в систему родовых связей, заведомо расцениваются как совершенно неправомочные, как вторжение извне и победа «свойствá» над «родством»: «Братец к нам переменится, не станет нас так любить и жаловать, как прежде, молодая жена ототрет родных, и дом родительский будет нам чужой» (Аксаков I,148) .
6. Внутреннее единство мотивно-сюжетной структуры «Семейной хроники».
Количество мотивных комплексов и архетипов, связанных с понятием «семья», очень велико, и в этой работе мы указали лишь на те из них, которые непосредственно связаны с ним: архетипы первопредка и потомка, мотивы наследования, свадьбы, семейной распри… Мы рассмотрели лишь небольшую часть мотивов, связанных с семейной тематикой; некоторые из них остались вне рамок работы, например, обширный мотивный комплекс, связанный с материнством, который играет очень важную роль в последнем отрывке «Семейной хроники».
Традиционная историческая поэтика имела дело, главным образом, с мотивами, функционирующими в фольклоре или на ранних этапах развития письменности, по сути дела, вынося за скобки современную литературу. Выше мы уже упоминали о том, что А. Н. Веселовский прямо заявлял о невозможности изучения ее системы сюжетов, пока она не пройдет через испытание временем. Современное литературоведение все же начало попытки проведения мотивного анализа художественной литературы, используя и перерабатывая опыт, накопленный фольклористикой и исторической поэтикой. В соответствии с новым материалом начали меняться и методы исследования, уточняться значения многих привычных литературоведческих категорий и терминов.72
Мы не случайно начали рассмотрение системы мотивов произведений с уровня стилистики. Существенной особенностью литературного текста, по сравнению с фольклорным, является большая роль, больший удельный вес стилистической составляющей мотива. Функционирование мотива в устном тексте в значительной степени обусловлено прагматикой бытования произведения, необходимостью облегчить его запоминание, воспроизведение и передачу. Там мотив вынужденно живет обособленно: имеет свое ядро и границы, а его место определяется сюжетной ролью героя, его атрибутами и функцией, а, значит, может быть легче вычленяем в структуре текста. Оказавшись же в литературном произведении, он, по сути дела, утрачивает свои главные определяющие признаки: целостность и неделимость. Функции в фольклоре, закрепленные за одним героем, могут распределяться по разным персонажам и наоборот: один персонаж способен одновременно стать носителем нескольких формально несовместимых атрибутов. Подобная ситуация не редкость и для фольклора, но там она является исключением свидетельствующим о кризисе традиции; для литературы же это – норма.
В литературном произведении значительно более важную роль начинает играть сформированная за историю развития мотива образность. Сам мотив становится аморфным, он живет не только в персонаже – с его характером и поступками, но и в стиле повествования, использовании семантически маркированной лексики, намеках, аллюзиях, скрытых цитатах. В результате литературный мотив, так сказать, растекается по тексту произведения и, благодаря этому, оказывается способен взаимодействовать с другими мотивами совершенно иными способами, чем фольклорный: объединяться с ними, влиять на них и сам трансформироваться под их влиянием.73 Наконец, вся мотивная структура оказывается системно взаимосвязанной и с другими элементами текста: в частности, с авторской позицией повествователя.
Проблема анализа литературного произведения коренится в том, что если мы предварительно не определим тему произведения (или его части), вокруг которой мы будем группировать и систематизировать мотивы, то не в состоянии будем их все не то что осмыслить, но и перечислить. Ведь, в силу отмеченной специфики бытования, количество мотивов внутри литературного произведения стремится к бесконечности. Предварительное определение темы рассматриваемого произведения необходимо методологически, но при этом нельзя забывать, что оно неизбежно диктует направление всего дальнейшего исследования мотивной структуры. Высказав положение, что ведущей в «Семейной хронике» является тема семьи, мы ограничили тем свой выбор анализируемых мотивов. С полным правом мы могли бы, к примеру, предопределить в качестве темы этого произведения предложенное Ю. Мальцевым понятие «прапамять»74 – память о прошлом, предшествующем рождению героя-повествователя. Однако мы остановились на тематике семейной, основывая свой анализ на категориальной базе, предложенной о. П. Флоренским. Использование генеалогических понятий «родства» и «свойствá», соотносимых с категориями времени, пространства и причинности, должно было помочь выявлению особенностей функционирования и взаимосвязей целого ряда мотивных комплексов связанных с идеями рода и семьи. Вертикальную и горизонтальную координаты генеалогической связи можно, наверное, сравнить с теми самыми продольными и поперечными нитями ткани, вдоль которых, в соответствие с образной формулировкой А. Н. Веселовского, посредством взаимного пресечения мотивы «снуются», выстраивают основу ткани повествования.
«Семейная хроника» дает обширный материал для иллюстрации того, как группы мотивов сливаются в комплексы, сориентированные по силовым линиям генеалогических координат. Важную, объединяющую роль в этом исполняют носители мотивных функций – архетипы, в данном случае «первопредка», «наследника», «жениха» и «невесты», вокруг отдельных характерных свойств, которых группируются мотивы. Здесь мы сталкиваемся с проявлением той глубинной взаимосвязи между героем и его функцией, на которую указывала О. Фрейденберг. Разница обнаруживает себя лишь в особенностях ее функционирования. В фольклоре эта взаимозависимость проявляет себя напрямую, и «морфология» героя определяется набором атрибутов, необходимых для исполнения им своих функций. В литературе связь эта оказывается более опосредованной, а персонаж как бы заимствует атрибутику и мотивы из обширного набора, сформировавшегося за историю развития стоящего за ним архетипа.
Рассмотрение форм, которые способны принимать мотивные комплексы, связанные с семейной тематикой, помогает лучше понять их структуру и внутреннюю логику функционирования. Для каждого отдельного произведения отбор мотивов, а также те или иные акценты, падающие на каждый элемент текста, будут уникальными, а необычная модификация и даже «фигура умолчания», отсутствие того или иного потенциально возможного мотива способны многое сказать о творческом замысле автора. В этом отношении можно сказать, что Аксакову удалось создать, по сути дела, образцовое, эталонное произведение на семейную тему с точки зрения его пространственно-временной организации и связанных с ней мотивных комплексов и архетипичных персонажей.
В завершение этой главы нашей работы хотелось бы вернуться к ее началу – к упоминавшейся нами античной максиме: «Целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное – на основании целого». В соответствии с ее внутренней логикой, мы начали с конкретизации целого: определения темы произведения и попытки интерпретировать ее на основании частного, через анализ присущей ему мотивной системы. Мы, уделив должное внимание многочисленным частностям, вновь вернулись к проблеме целого, но уже на новом уровне. Теперь, имея некоторый набор сведений о сюжете произведения и «снующихся» мотивах, можем снова ставить вопрос об уточнении тематики произведения. Ответ на него может быть получен лишь по результатам нового исследования.
1 Гадамер Г. О круге понимания // Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С.72—91.
2 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 500.
3 Там же. С. 495.
4 «Для того чтобы словесная конструкция представляла единое произведение, в нем должна быть объединяющая тема, раскрывающаяся на протяжении произведения». Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 2003. С. 176.
5 «Для Веселовского мотив есть нечто первичное, сюжет – вторичное. Сюжет для Веселовского уже акт творчества, соединения». Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 14.
6 Томашевский Б. В. Цит. соч. С. 182.
7 Мы не будем приводить всю посвященную этим терминам библиографию. Однако хотелось бы упомянуть, как заслуживающую особого внимания, монографию И. В. Силантьева. Силантьев И. В. Поэтика мотива. М., 2004
8 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV (C – V), М., 1994, (Репринтное воспроизведение с издания 1903—1909 гг. Под ред. Бодуэна-де-Куртенэ). С. 323.
9 Анненкова Е. И. Аксаковы… С. 355.
10 Энгельгардт Б. М. Феноменология и теория словесности. М., 2005. С. 137.
11 Там же. С. 144.
12 Платонов А. П. Детские годы Багрова-внука [Рецензия]. // Платонов А. П. Размышления читателя. Статьи. М., 1970. С. 43.
13 Веселовский А. Н. Цит. соч. С. 495.
14 Флоренский П. А. прот. У водоразделов мысли // Флоренский П. А. прот. Сочинения. Т. III, Кн. 2, М., 2000. С. 28. (Подчеркивание автора).
15 Там же. С. 54.
16 В своей монографии А. Дуркин отмечает целый ряд примечательных стилистических особенностей приведенной цитаты: “Even the style used to describe the situation suggests this entailment: otchina ("holding") is archaic in comparison with the standard votchina; the phrase ot tsarei moskovskikh ("by the tsars of Moscow"), with its legalistic inversion and archaic use of ot for "agent", suggests the style of the very document (gramota) by which the original grant was presumably made”. «Даже стилистика, используемая в описании сложившейся ситуации, предполагает идею родового наследования: слово «отчина» – более архаичное по сравнению с общепринятым «вотчина»; выражение «от царей московских» – канцеляризм с архаичным же использованием союза «от» для указания субъекта действия, предполагают стиль того самого документа (грамоты) согласно которому, предположительно и было совершена изначальная передача <поместья> в собственность». Durkin A. Op. cit. P. 116.
17 В связи с отмеченной ироничностью данного отрывка, вероятно, можно упомянуть еще одно место, в этом контексте приобретающее своеобразное дополнительное звучание. Всего в двух страницах от приведенной цитаты Аксаков, описывая степную растительность среди названий трав, наряду с душистой кашкой и валерианой, называет «боярскую спесь» и «царские кудри» (Аксаков I, 79). Может быть, это и случайность, но вариант «оговорки по Фрейду», наверное, тоже исключать не стоит.
18 А. Дуркин подробно исследовал структуру конфликта Софии Николаевны с родными своего мужа. Идейную основу этого конфликта он видит в принципиальных различиях двух мировоззренческих типов существовавших в дворянской среде той эпохи: городского (city) и деревенского (country). Эти различия сказывались на всех уровнях социальных взаимоотношений, часто почти полностью предопределяя поведение отдельной личности. Отметим, не вдаваясь в подробности этой типологии, что, по мнению Э. Дуркина, деревенский тип мировоззрения характеризуется, в первую очередь, особой ролью, которую играет в нем кровное родство: “Kinship determines not only an individual’s position in the family, but also absolutely prescribes his attitudes toward others” – «Кровное родство определяет не только положение личности в семье, но также абсолютно предопределяет его отношение к другим». Durkin A. Op. cit. P. 141.
19 Подробно структура повествования внутрисемейных преданий рассматривается в работе А. А. Павловой: Павлова А. А. Концептосфера внутрисемейных родословных: автореф. дис. … канд. филол. наук. Белгород, 2004. 23 с.
20 Приведем лишь пару примеров: «По изустному преданию наслышал я от родителя моего и от родственников, что у Прохора Данилова было два сына: Савелий, Иван, и дочь Дарья; Иван скончался бездетен, дочь Дарью выдал за Милославского, а от Савелия якобы пошел наш род»; «Митрофан Осипович, двоюродный мой дед, чин имел стольника; я его видал, когда был еще лет восьми от роду. Он без выезда жил в той деревне, где я родился; он рассказывал про Москву, также и про свой Чигиринской <…> поход» Данилов М. В. Цит. соч. С. 284—285, 287.
21 Шкловский В. Б. Цит. соч. С. 30—31.
22 Э. Дуркин в своей монографии дает более широкое толкование этому событию, связывая его с универсальной мифологемой «творения мира», где человек выступает носителем высшей творческой силы, проявляющей себя через преобразование природы: “The damming of the river sums up humanity’s creative interaction with its environment, the human ability to intervene in the process of life and time (both suggested by the flowing water) and to create a new order in which human beings may participate” – «Строительство дамбы на реке подводит итог творческому взаимодействию человека и природы, человеческой возможности вмешиваться в течение жизни и времени (метафорически представленных в образе текущей воды) и творить новой порядок, в котором человек участвует как составная его часть». Durkin A. Op. cit. P. 117.
23 Флоренский П. А. прот. У водоразделов… С. 35.
24 Лихачев Д. С. Цит. соч. С. 414.
25 «Под атрибутом мы понимаем совокупность всех внешних качеств персонажей: их возраст, пол, положение, общий облик, особенности этого облика и т. д.». Пропп В. Я. Цит. соч. С. 66.
26 Подобная интерпретация этого сюжета присутствует в диссертации Н. Г. Николаевой: «сюжет второго отрывка вписывается в логику мифа о культурном герое, который сначала завоевывает пространство, организует мир, устанавливает формы хозяйства и регламентирует социальные отношения, а затем часто ведет борьбу с антигероем, грозящим превратить организованный космос в хаос». Николаева Н. Г. «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова: формы письма и традиции жанра: дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2004. С. 157.
27 Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 26.
28. Там же. С. 25—26.
29 Дело в том, что образная система этого, часто цитируемого, отрывка восходит к традиции ее литературной романтической стилизации, а не к фольклорным образцам. Как ни странно, выражение «молодецкие потехи» редко появляется в былинах, а образ «дуба, стряхивающего брызги воды после дождя» практически не встречается.
30 «Истинный богатырь – это смелый и даже дерзкий воин, не применяющий никакого колдовства, готовый встретить любую опасность и склонный к переоценке своих сил». Мелетинский Е. М. Цит. соч. С. 25.
31 Это неприятие всякого рода суеверий и мистицизма, унаследованное С. Т. Аксаковым от своего деда, в качестве особого мотива не раз проявляется в его творчестве: например, «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» или в очерке «Несколько слов о суевериях и приметах охотников».
32 Мелетинский Е. М. Культурный герой // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 тт. Т. II., М., 1992. С. 26—27.
33 На закономерность удвоения второстепенных персонажей и появления таких пар, как Кутейкин и Цыфиркин, Бобчинский и Добчинский, обратил внимание в своей работе «К истории русского классицизма» Л. В. Пумпянский. См.: Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 30—158.
34 Среди персонажей «Семейной хроники» есть еще один: вероятно, типологически восходящий к архетипу трикстера. Это Калмык – слуга Николая Федоровича Зубина. Однако архетип здесь принимает несколько иные формы. В образе этого героя практически отсутствует какая бы то ни было комическая составляющая. В свою очередь, на первый план выходит элемент «дублирования-узурпации», поскольку с момента болезни Николая Федоровича Калмык, по сути дела, захватывает всю его власть над домом.
35 См.: Лотман Ю. М. Структура художественного текста... С. 208—211.
36 См.: Кошелев В. А. Век семьи Аксаковых // Север. 1996, № 1. С. 69.
37 Durkin A. Op. cit. P. 14.
38 Конечно. С. Т. Аксаков не был в русской литературе первым автором, использовавшим этот мотив. Неслучайно он возникает в самом начале «Записок М. Данилова»: «Живучи в деревне, в свободных мыслях и безмятежном сельском житии находясь празден, без всякого дела, возомнил я написать происшествие фамилии нашей Даниловых, а к сему моему предприятию послужила мне немало случившаяся при мне тогда копия, списанная в Герольдии из Бархатной книги (Книга есть при Герольдии 1, а потому именуется Бархатная, что переплетена в бархат; в ней, по именным указам с 191 по 199 год 2 вписаны подаваемые дворянские сказки, откуда кто произошел и фамилию свою ведет) родословия всему дворянству». Безвременье и временщики… С. 283. Об особенностях функционирования этого мотива в творчестве Пушкина, есть интересные замечания у Л. В. Пумпянского. См.: Пумпянский Л. В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 218.
39 Веселовский А. Н. Цит. соч. С. 495.
40 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 220—221. Приведем еще одно ее замечание: «Значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив: герой делает только то, что семантически сам означает». Там же. С. 223.
41 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. // Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С.174.
42 Флоренский П. А. прот. У водоразделов.. С. 55.
43 Пропп В. Я. Цит. соч. С. 143.
44 Подобная ситуация свойственна, конечно, патриархальному типу организации семейных отношений. Сказка сохраняет, в этом отношении, специфичные реликты матриархата, которые, впрочем, оставляют в силе саму идею взаимосвязи идеи брака с пространственной координатой: «При браке жена вступает в род своего мужа или, наоборот, муж вступает в род своей жены. Последний случай мы всегда имеем в сказке. Он отражает матриархальные отношения». Там же. С. 379.
45 «Часто главный герой в начале — бездомный, безродный, неимущий человек, он скитается по чужому миру среди чужих людей, с ним происходят только случайные несчастья или случайные удачи, <…> Движение романа ведет главного героя (или героев) из большого, но чужого мира случайностей к маленькому, но обеспеченному и прочному родному мирку семьи, где нет ничего чужого, случайного, непонятного, где восстанавливаются подлинно человеческие отношения, <…> Этот суженный и обедненный идиллический мирок является путеводною нитью и заключительным аккордом романа. Такова схема классической разновидности семейного романа, открываемого «Томом Джонсом» Филдинга (с соответствующими изменениями она же лежит и в основе «Перигрина Пикля» Смоллетта)». Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. С. 165—166. Подробнее о восприятии категорий пространства и семьи в английской литературе см: Hewitt K. Understanding English Literature Oxford: Perspective Publications Ltd. 1997. P. 203—241.
46 См.: Бахтин М. М. Эпос и роман… С. 47 и далее.
47 Об этом подробнее см: Дудина Л. Н. Мотив дороги в мемуарной хронике С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» // С. Т. Аксаков и славянская культура: Тезисы докладов юбилейной конференции. Уфа. 1991. С. 35—38.
48 Подробнее см.: Durkin A. Op. cit. P. 139—144.
49 Подобная очередность смены локусов, свойственна конечно, патриархальному типу семьи.
50 «Against the background of these differences between city and country, marriage becomes a metaphor for the elimination or neutralization of these differences». Durkin A. Op. cit. P. 142.
51 Подробнее см.: Ibid, p. 132—139.
52 Хотелось бы отметить в концепции Н. Г. Николаевой один нюанс: мотивировку его отъезда необходимостью спасти род от упадка. Об этом упадке свидетельствуют, по мнению исследователя, такие черты в характере младшего Багрова, как слабоволие, несамостоятельность и необразованность, и исправить которые можно лишь при помощи сил извне. Отсюда «обновление рода связывается с женитьбой сына на чудесной невесте из чужого рода». Николаева Н. Г. Цит. соч. С. 160.
53 Там же.
54 Там же. С. 179
55 Подробнее см.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 262 и далее.
56 Пропп В. Я. Цит. соч. С. 379, 410—411.
57 Там же. С. 385.
58 Там же. С. 411.
59 Там же.
60 «Sofia Nikolavna’s status as a fairy-tale heroine undergoes modification at a central event in the third chapter, Aleksei Stepanovich’s formal proposal of marriage. Life is beginning to render the patterns of fairy tale inadequate <…> The difficulties that in fairy tale are resolved in the concluding marriage are in fact only beginning for Sofia Nikolavna». Durkin A. Op. cit. P. 137.
61 «the imagery linking Sofia Nikolavna with fairy tale and magic all but disappears; the central fact of her power remains, but loses any metaphoric or occult quality». Ibid. p. 137.
62 Демкова Н. С. Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретации, источники: Сборник статей. СПб., 1997. С. 92—93.
63 Достаточно отметить, что одним из первых профессиональных литературных опытов С. Т. Аксакова была идиллия «Рыбачье горе» (Аксаков III, 668). Это произведение вдвойне примечательно: с одной стороны, в силу соответствия его традициям и канонам жанра, а с другой – как предвестник будущей важнейшей темы зрелого периода его творчества.
64 Durkin A. Op. cit. P. 242.
65 «Чем реалистичнее выписывались подробности пастушеского быта – запах козьих шкур, циновки убогих хижин, пересчет стад, нехитрые трапезы, крепкие перебранки, песенные переклички, явно воспроизводящие подлинные народные запевки, – тем выигрышнее это было для греческой буколики». Гаспаров М. Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. С. 120.
66 См.: Аверинцев С. С. Две тысячи лет с Вергилием // Аверинцев С. С. Образ античности. СПб., 2004. С. 221.
67 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 159.
68 Напомним классическое описание идиллического хронотопа, данного М. М. Бахтиным: «Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот ограничен и «довлеет себе», не связан существенно с другими местами, с остальным миром. Но локализованный в этом ограниченном пространственном мирке ряд жизни поколений может быть неограниченно длительным. Единство жизни поколений (вообще жизни людей) в идиллии в большинстве случаев существенно определяется единством места, вековой прикрепленностью жизни поколений к одному месту, от которого эта жизнь во всех ее событиях не отделена». Там же. С. 158.
69 Э. Дуркин подробно разбирает семантическую структуру этого эпизода и описанные в ней события сквозь ритуальную составляющую сельского (country) образа жизни и идеологии. Хотелось бы только добавить, что, кроме прочего, подробное описание встречи молодоженов с сопутствующими обрядовой стороне свадьбы весельем и застольями может быть тесно связано также и с идиллическим началом.
70 Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 244.
71 Коллизия эта была подробно рассмотрена Э. Дуркиным с точки зрения его концепции о мировоззренческих типах: “The understanding reached between Sofia Nikolavna and Stepan Mikhailovich involves a reciprocal elimination of the distinction connected with the opposition between city and country and between family and stranger (rodnoi and chuzhoi)” – «Понимание, достигнутое между Софьей Николаевной и Степаном Михайловичем влечет за собой взаимное упразднение различий, связанных с оппозицией между городом и деревней и между семьей и чужаком (родной и чужой)». Durkin A. Op. cit. P. 153—154.
72 Подробнее об этом см.: Силантьев И. В. Цит. соч. С. 58 и далее.
73 «При этом в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» – событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; единственное, что определяет мотив, – это его репродукция в тексте, так что в отличие от традиционного сюжетного повествования, где заранее более или менее определено, что можно считать дискретными компонентами («персонажами» или «событиями»), здесь не существует заданного «алфавита» – он формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру». Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 31.
74 Мальцев Ю. В. Бунин. М., 1994. С. 8.