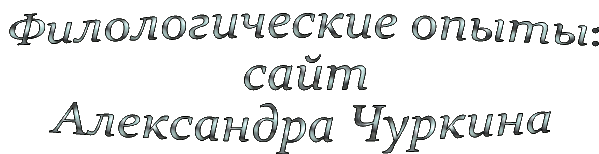Чуркин А. А.
Мемуарно-автобиографическая проза С. Т. Аксакова: проблемы поэтики
Глава 1. Творчество С. Т. Аксакова в контексте литературного процесса середины XIX века
1. Эволюция мемуарного жанра в первой половине XIX века.
Середина XIX века – это особый период в истории русской мемуарной литературы. Начиная с 40-х годов наступает новый этап ее развития; можно сказать, что в это время происходит настоящий переворот в жизни этого жанра. На протяжении всего XVIII столетия русская мемуаристика существовала под спудом, и при всех своих художественных и исторических достоинствах записки Болотова, Дашковой, Екатерины II не могли стать фактом большой литературы, поскольку писались в расчете на узкий круг читателей – семьи и друзей.1 И только в XIX веке изначально ориентированные на внутрисемейное употребление воспоминания частного человека о своей личной жизни вначале обретают ценность как исторический документ, а затем становятся важным составным элементом литературной и общественной жизни.
Проявления этого процесса были разнообразны.2 Так в это время мемуары становятся интересны не только профессиональным историкам, но и широким слоям читающей публики. Именно в 40—50-е годы XIX столетия начинают извлекаться из личных архивов и активно публиковаться мемуары, написанные полвека ранее. В общественном сознании возникла своего рода «цепная реакция», так благодаря рукописному хождению, а потом изданию мемуаров Дашковой, Лопухина и других деятелей второй половины XVIII века, актуализировался интерес к событиям Екатерининской эпохи, что уже служило стимулом для работы следующих поколений мемуаристов: И. И. и М. А. Дмитриевых, А. С. Шишкова, а отчасти – и Аксакова. Не случайно его «Семейная хроника» воспринималась современниками как часть этой литературной традиции3. И. Делаво в своей рецензии буквально настаивает на необходимости восприятия «Семейной хроники» в привязке к контекстам Екатерининской эпохи: «Не забудем, что г. Аксаков написал не роман: все, что он нам передает это хроника – хроника русской семьи в правление Екатерины II».4
Но гораздо важнее, чем появление в печати старых тестов, на развитии жанра сказалось то, что если ранее мемуары появлялись в печати, как правило, лишь после смерти их авторов, то теперь начинается массовая прижизненная публикация воспоминаний лиц, активно участвующих в общественной и культурной жизни. В 1826 году в рецензии на «Записки графини Жанлис» П. А. Вяземский писал: «Наш век есть, между прочим, век записок, воспоминаний, биографий и исповедей, вольных и невольных: каждый спешит высказать все, что видел, что знал, и выводит на свежую воду все, что было поглощено забвением или мраком таинства».5 На протяжении всей первой половины века чуть ли не в геометрической прогрессии росло число авторов опубликованных воспоминаний. Так, по подсчетам А. Г. Тартаковского, если в течение первых 40 лет их насчитывалось 64, то за следующие два десятилетия в печати появились произведения 243 мемуаристов.6 Подавляющее большинство этих публикаций были прижизненными.
Увеличивалось не только число подобных произведений, но и расширялась их тематика. События войны 1812-го года породили целый вал мемуарной литературы, написанной буквально по горячим следам. От военной тематики интерес стал смещаться в сторону мирной жизни, и к середине века не осталось почти ни одной из сторон общественной жизни, которая бы не стала предметом воспоминаний. Тематический спектр мемуаристики расширился необычайно: публиковались воспоминания мужчин и женщин, дворян и разночинцев, чиновников и помещиков, литераторов и театралов. В 40-х годах начали публиковаться и семейно-бытовые мемуары, хотя истоки этого жанра берут начало еще в последней трети XVIII века. Первым русским произведением такого рода, наверно, можно считать записки М. В. Данилова.7 Написанные в последней трети XVIII столетия, опубликованы они были в 1842 году и сразу обратили на себя внимание русского читателя. Н. А. Добролюбов в своей статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы» цитирует их в качестве историко-бытового комментария к «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова-внука».8 А в статье «Русская сатира в век Екатерины» он выстраивает уже целый ряд мемуаров, объединенных общей темой: «Из записок Болотова (1753—1754), из воспоминаний Данилова, родившегося в 1722 году, мы видим, что так же было и за двадцать – тридцать лет ранее. Еще раньше – было, разумеется, еще хуже. Но лучше ли было и после? Вспомним рассказы наших современников о том, как шло их воспитание, в начале нынешнего столетия. Прочтите «Семейную хронику» и «Детские годы» С. Т. Аксакова, прочтите «Годы в школе» г. Вицына («Русская беседа», 1859, № 1—4), «Незатейливое воспитание», из записок А. Щ. в «Атенее» (1858, № 43—45), – не та ли же самая история повторялась у нас в частном воспитании, вплоть до француза, по крайней мере?».9
Примечательно, что первый отрывок «Семейной хроники» увидел свет в 1854 году в «Москвитянине». Этот журнал играл важнейшую роль в процессе становления русской мемуаристики. По подсчетам А. Г. Тартаковского, в период с 1841 по 1855 год в нем были опубликованы более трети от общего числа всех мемуаров, записок и дневников, вышедших в русской периодике того времени. Вот почему трилогия Аксакова воспринималась в контексте развитой традиции.
Одной из основных тенденций двух последних предреформенных десятилетий стал все больший рост интереса читателей к мемуарам, посвященным событиям недавнего прошлого. Чернышевский в своей статье взывал к авторам мемуаров, «относящихся до близкого нам времени»: «они везде читаются с жадностью, везде приносят много пользы и наслаждения <…>. Да где же они? Дайте их!»10. И не случайно было, что поводом ему послужила «Семейная хроника» Аксакова. Так случилось, что целый ряд особенностей, связанных с трансформацией жанра, в них воплотился с особенной полнотой. Аксаков обладал обостренным чутьем к тенденциям, еще только зарождавшиеся в литературе, и смелостью их опережать.
Осмысление событий недавнего времени становилось поводом для размышлений о настоящем – жанр, который еще раньше ценился почти единственно за информацию о прошлом, актуализировался, буквально прорывался вслед за романом в «зону непосредственного контакта с действительностью».11 И книгам Аксакова была отведена в этом сложном и противоречивом процессе большая роль, которую еще П. В. Анненков охарактеризовал так: «Если последняя и высшая цель всякой литературы состоит в том, чтобы привести общество к самопознанию, открытию нравственных сил, действовавших в нем прежде, и тех, какие еще могут действовать в нем, то книга С. Т. Аксакова принадлежит к тем утешительным явлениям, которые способствуют этому великому назначению литературы. Она именно возникла из потребности осмотреть себя и своих».12
На фоне подобной характеристики, прозвучавшей из уст современника, рельефнее заметен важнейший парадокс, во многом предопределивший развитие творчества Аксакова, – двойственное восприятие его произведений современниками. Из биографии писателя мы знаем, что практически все его книги – за исключением может быть «Литературных и театральных воспоминаний» – были встречены единодушно положительно. И критики и читатели сразу оценили художественные достоинства языка и новизну в раскрытии темы. Однако, свои воспоминания о Гоголе Аксаков предуведомляет таким вступлением: ««История моего знакомства с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или, по крайней мере, для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно даже о давнопрошедшем» (Аксаков III, 151).13 В чем же тогда причина сетований Аксакова и такого неверия в судьбу своих книг?
Самопознание – процесс противоречивый: результат его непредсказуем, и далеко не всеми слоями общества и государства может быть принят. Недаром в приведенной цитате на второе место, после моральных ограничений, он поставил цензуру, сильнейшее сопротивление которой ему приходилось преодолевать на протяжении почти всей своей писательской биографии. Трудно понять, глядя с позиции современности: что такого крамольного могли обнаружить цензоры, бывшие коллеги, в творчестве Аксакова? Но даже книги об охоте и рыбалке воспринимались ими как нечто подозрительное и опасное. Что уж говорить о мемуарных произведениях Сергея Тимофеевича14?
Письма Аксакова полны горьких слов о непонимании его как посторонними, так и самыми близкими людьми. Стало уже общим местом объяснять сопротивлением родных тот факт, что Аксаков заменил реальные имена персонажей «Семейной хроники» вымышленными. Но обратим внимание на то, что это произведение писалась почти параллельно с «Воспоминаниями», где все герои названы реальными именами. Более того: в первом, еще даже не полном, своем издании оба произведения вышли под одним переплетом, что, естественно, полностью разоблачало всю конспирацию15. «Предуведомление читателям» о том, что совпадения в биографиях персонажей – случайность, дает лишь обратный эффект. Рискнем предположить, что не стремление сохранить семейные тайны руководило здесь Аксаковым: у него было достаточно характера, чтобы противостоять любому давлению на себя. Скорее всего, именно внутреннее понимание художественной природы своих книг было здесь решающим, как, оспаривая мнение Ивана Сергеевича Аксакова, писал об этом Эндрю Вахтель: «Когда Аксаков захотел написать реальную автобиографию, он это сделал без какой бы то ни было оглядки на права семьи. В действительности в выборе жанра он руководствовался целым рядом чисто литературных причин»16.
Действительно: у родных был повод для недовольства тем, что Аксаков семейную историю сделал предметом литературы: в любом доме есть свои секреты, застарелые обиды, рассказ о которых, даже в прикровенной (художественно обработанной) форме, воспринимается как вынос сора из избы. В свою очередь, и оппонирующий славянофилам литературно-общественный лагерь также имел свои собственные идеологические причины для неприятия его книг: Сергей Тимофеевич Аксаков не мог восприниматься отдельно от своих сыновей Константина и Ивана и, соответственно, отношение к их деятельности и взглядам проецировалось на творчество их отца. Единодушие критиков, положительно оценивавших его произведения, не могло скрыть о С. Т. Аксакова и настроение «подозрительной раздражительности», присутствовавшее у некоторой части его читателей. Оно носило подспудный характер, иногда проявляясь совершенно неожиданным образом. К примеру, Белинский демонстративно не заметил выход в свет его «Записок о рыбалке». В статье «Воспоминания старого театрала» С. П. Жихарев обрушился с довольно мелочной критикой на его театральные воспоминания, обидные не столько своим содержанием, сколько общим тоном. Насколько сильно это задело Аксакова, можно понять из отчаянного восклицания в конце ответной заметки, опубликованной в «Москвитянине»: «В заключение скажу: неужели нельзя, опровергая чьи-нибудь мнения, обойтись без таких выражений и такого тона, какой слышится, например, на стр. 117 «Воспоминаний старого театрала»?» (Аксаков III, 609). В итоге, над какой бы из своих книг ни работал Аксаков, ему всегда приходилось преодолевать чье-либо сопротивление: близкие были недовольны семейной трилогией, ревнивая борьба вокруг гоголевского наследия отравляла работу над «Историей моего знакомства с Гоголем» 17; придирки цензуры сопровождали выход в печать каждой книги. Однако рискнем предположить, что, кроме этих внешних причин недопонимания творчества Аксакова совершенно разными лицами, были еще и внутренние, в глубине своей имевшие эстетические основания: простой ясный язык; понятное, близкое современникам содержание маскировали тектонический сдвиг в поэтике и стилистике мемуарно-биографической прозы, выразителем которого в русской литературе стал Аксаков. Ниже в своей работе мы скажем об этом подробнее.
Перечисленные выше факторы литературного процесса – такие, как усиление читательского интереса, публикации воспоминаний еще при жизни автора и героев, актуализация тематики, новое место, которое начинала занимать мемуаристика в литературной жизни – были необходимы, но недостаточны для того, чтобы произведение вступило в диалогические отношения с настоящим: требовалась глубокая трансформация не только содержательной стороны, но и поэтики, и стилистики как отдельных произведений, так и жанра в целом. Основным направлением этих изменений стало усиление художественной составляющей, сближение мемуаристики с литературой, беллетризация жанра, а решающими в этом отношении стали взаимодействие мемуарной прозы с очерком и романом.
До середины XVIII века одной из важнейших проблем для автора было заставить читателя поверить в реальность вымышленного персонажа. В поисках своего «я» роман, жанр отверженный и приниженный, пробовал надевать на себя маску своих почтенных и авторитетных «собратьев» – мемуаров или исторического сочинения; заглавия книг пестрели эпитетами: «правдивая история», «жизнь и приключения N, рассказанные им самим». Прием этот пережил XVIII столетие: в XIX веке он был пародийно переосмыслен Э. Т. Гофманом в «Житейских воззрениях Кота Мурра», а в XX – мифологизирован Т. Манном в «Докторе Фаустусе». Активно использовал этот прием и Достоевский: в форме мемуарных записок написаны: «Подросток», «Бесы»; «Белые ночи» сопровождены подзаголовком «Из воспоминаний мечтателя», «Маленький герой» – «Из неизвестных мемуаров», «Село Степанчиково» – «Из записок неизвестного» и т. д. В его интерпретации «мемуары» насытились совершенно неожиданной сюжетной динамикой, которую так описал В. Ф. Переверзев: «Нет ничего легче, как поставить мемуариста в такое положение, при котором он явился бы свидетелем фактов, непонятных для него вплоть до развязки, до смысла которых он добирался бы лишь понемногу, среди развивающегося действия и сутолоки событий, улавливая по крупицам их связь. Такую именно роль играет мемуарист у Достоевского. Он всегда окружен тайнами и секретами. <…> Мемуар – чрезвычайно удобная форма для романиста, начинающего рассказ прямо с действия».18 И можно было бы сказать, что подобное взаимодействие с мемуаристикой способствовало обогащению романа, из нее он унаследовал и авторскую саморефлексию, и интимность интонации, и интерес к частностям быта, и портретность в описании характеров, если бы не одно «но»: «Роман, как мы уже сказали, плохо уживается с другими жанрами. Ни о какой гармонии на основе взаиморазграничения и взаимодополнения не может быть и речи. Роман пародирует другие жанры (именно как жанры), разоблачает условность их форм и языка, вытесняет одни жанры, другие вводит в свою собственную конструкцию, переосмысливая и переакцентируя их».19 Преображение мемуаристики в середине XIX столетия предоставляет нам замечательную иллюстрацию этих слов М. Бахтина: на протяжении двух веков, в тесном взаимодействии с документальными жанрами, вырабатывая новый взгляд на соотношение исторической и художественной правды, вымысла и реальности, роман закладывал новые возможности для их развития. И вот наступил момент, когда он начал «возвращать свои долги»: теперь уже в мемуарную прозу начали проникать новые принципы построения образов и персонажей, те самые принципы, которые он в свое время усвоил из нее, но теперь уже обогащенные новым литературным опытом. «Война риторике и мир синтаксису», провозглашенная Гюго, 20 перекинулась и на мемуаристику: вернее, роман открыл в мемуаристике второй фронт этой войны.
2. Влияние охотничьих очерков Аксакова на формирование поэтики его воспоминаний.
Как ни странно, становлению сюжетности в мемуаристике в большой мере способствовало ее близкое взаимодействие с таким «бессюжетным» жанром, как очерк. Ни один жанр не существует изолированно, разнообразные глубинные течения пронизывают литературу, связывая между собой самые разные ее формы – в частности, роман, мемуары и очерк, – на что в начале XX века обратил внимание Б. М. Эйхенбаум: «Мы вступили в полосу нового развития исторического и биографического романа. Это естественный результат эстетического интереса к мемуарной литературе, к исторической экзотике. Современный быт должен предварительно пройти сквозь литературное оформление вне фабулы, в виде очерков и фельетонов, чтобы стать сюжетоспособным».21 Судя по всему, отмеченная взаимосвязь носит универсальный характер для периодов трансформации, процессы актуальные для литературы 20-х годов XX столетия по своему заявляли о себе и первой половине XIX, во время, когда эти жанры еще находились в состоянии становления. Дело в том, что в переломные эпохи становится актуальной общая черта, объединяющая исторический, биографический романы, мемуары и очерк – усиленный акцент на познавательной функции содержания, на первом элементе древней риторической триады: «Учить. – Убедить. – Усладить».
Недаром, исследуя проблематику художественного времени, Д. С. Лихачев также указывал на присущий очерку особый акцент на познавательной функции, связующей его с учительной традицией средневековых литератур: «Учительная литература Древней Руси подчиняла настоящее время задачам нравоописания и нравоучения. <…> Любопытное продолжение это «настоящее время» обличительной и учительной литературы получило в нравоописательном очерке первой половины XIX в., находившемся под влиянием очерка французского. Очерк также ставил себе целью обобщение нравов и обычаев, но в несколько ином типе. На первый план выступили познавательные цели очерка».22 Одной из фундаментальных особенностей морально-риторической системы было отношение к литературе в целом как к форме познавательной деятельности. Естественно что, после утраты риторикой своего доминирующего положения, эта функция словесности не могла полностью исчезнуть, должны были появиться жанры, взявшие на себя это бремя, и очерк стал одним из них.
30—40-е годы XIX века отмечены бурным развитием целого комплекса нравоописательных жанров: фельетона, очерка, физиологии, тесно взаимодействовавшими между собой. Аксаков также не остался в стороне от этого процесса, в период своей активной деятельности на поприще журналиста им был задуман цикл произведений о «нравах», которые он предполагал публиковать в журнале «Молва». История эта, как известно, кончилась трагично лично для Аксакова. Первый же фельетон «Рекомендация министра» вызвал гнев императора Николая I, последствия которого сказались на всей дальнейшей судьбе писателя: всю оставшуюся жизнь он находился под негласным надзором полиции; как неблагонадежному лицу, ему чинились препятствия в любой издательской деятельности.23 Однако, вопреки, а может быть, благодаря всем трудностям, Аксаков сумел найти свое место в этом литературном процессе, создать собственный уникальный жанр – охотничий очерк.
В середине XIX века этот жанр охотничьего очерка еще не обрел четко очерченных границ: он испытывал сильнейшее влияние со стороны как мемуаристики, так и путевых заметок, замечательным примером чего являются книги «Воспоминания» С. И. Черепанова. 24 Говоря о поэтике мемуарно-автобиографической прозы Аксакова, также невозможно обойти стороной его охотничьи произведения: некоторые из них, вошедшие в «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» являются полноправными представителями этого жанра: «Счастливый случай», «Странные случаи на охоте», «Необыкновенный случай». В нашем исследовании мы подробнее остановимся на двух первых его охотничьих произведениях, не только из-за того что в них присутствует большое количество крупных и мелких эпизодов написанных по личным воспоминаниям автора, но в первую очередь потому, что как мы увидим ниже, именно в них формировались многие базовые черты его мемуаристики, выстраивался специфично аксаковский баланс между художественностью и документальностью, зримой наглядностью образов и фактурностью языка ориентированного на устное слово25.
Спустя полтора столетия после написания «Записок об уженьи рыбы» и «Записок ружейного охотника» С. Т. Аксакова, трудно оценить насколько эти произведения выбивались из привычного современникам ряда книг посвященных этим занятиям. Не удивительно, что первая в аксакововедении научная статья по поэтике аксаковской прозы, вышедшая ровно сто лет назад, была посвящена именно этой теме.26 В ней К. Покровский, сравнивая приведенные Аксаковым описания жизни животных и способов охоты и рыбалки с подобными эпизодами из книг других авторов, наглядно показал, что прежде в русской литературе не было ни чего подобного, ни по глубине познаний, ни по художественному качеству.
Не зная еще читательской реакции на выход этих своих книг, Аксаков осознавал их новизну и в предисловии к «Запискам об уженьи рыбы» отмечал, что: «на русском языке, сколько мне известно, до сих пор не напечатано ни одной строчки об рыболовстве вообще или об уженье в особенности, написанной грамотным охотником, знающим коротко свое дело. На французском и английском языках есть много полных сочинений по этой части и еще более маленьких книжек собственно об уженье» (Аксаков IV, 13). Объясняя далее мотивы, побудившие его к написанию своей книги, он замечает, что они: «…если б и были переведены, то могли бы доставить более удовольствия при чтении, чем пользы в применении к делу. Причиною тому разность в климатах, в породах рыб и их свойствах. В этом случае добросовестные наблюдения рыболова-туземца, как бы ни были недостаточны, будут иметь важное преимущество» (Там же). Однако, понимая значение своей книги как «первого опыта на русском языке», он все же недооценивал ее принципиальную новизну с точки зрения поэтики, которая особенно отчетливо проявляется при сравнении с «зарубежными аналогами». В своем предисловии к английскому переводу «Записок о рыбалке» Томас Ходж, кроме прочих, сравнивает их с классической английской книгой Исаака Уолтона «Искусный рыболов, или Медитация для мужчин».27 Обе книги объединяет страсть к любимому занятию и разделяет существенное различие в поэтике: барочной насыщенности текста поэтическими и философскими аллюзиями, риторической упоенности словесной игрой у Уолтона противостоят аксаковская простота и функциональность формы, подчиненность ее содержательной стороне. 28 По мнению Е. И. Анненковой: «Аксаков уловил глубинную, почти неосознаваемую потребность своего времени в новом взгляде на природу – не эстетическом, опирающемся на литературную традицию, а позаимствованном как бы из самой природы; становилось очевидным, что это приведет к новому взгляду на природу вообще»29. В итоге Аксаков стал первым из русских писателей, кто сумел техническое руководство по охоте и рыбалке стилистически поднять до уровня художественной прозы, причем, что важно, – прозы современной.
Из современников, наверное, только Тургенев в полной мере понимал степень новизны языка охотничьих книг Аксакова. Именно он в своей рецензии на «Записки ружейного охотника» провел параллель между ними и очерком «натуральной школы». Термин «физиология», употребленный Тургеневым в отношении охотничьих очерков Аксакова, насыщен ярким антириторическим контекстом, противопоставлением их старой, уходящей в прошлое литературной традиции: «Говоря без шуток, я не могу довольно налюбоваться птичьими «физиологиями» г. А–ва. Я вовсе не намерен сравнивать его с Бюффоном и не дерзаю отрицать великих заслуг «отца естественной истории», но я должен сознаться, что такие блестящие риторические описания, каково, например, всем нам с детства известное описание коня: «Конь самое благородное завоевание человека» и т. д., в сущности очень мало знакомят нас с теми животными, которым они посвящены».30 Поэтому нельзя не согласиться с мнением Э. Л. Войтоловской, что «книга С. Т. Аксакова помогла Тургеневу сформулировать очень важную для «натуральной школы» эстетическую концепцию об изображении природы в литературе. Принципиальный противник так называемой «ложно-величавой» (ложноромантической) школы, Тургенев отстаивал отношение к природе как самостоятельно, объективно существующему миру».31
Современные исследователи обнаружили в стилистике охотничьих книг, «Семейной хроники», мемуаров и другие разнообразные «художественные приемы, сближающие Аксакова с писателями «натуральной школы»».32 Анализируя в своей монографии композицию охотничьих очерков Аксакова, С. И. Машинский обращает внимание на одну характерную контрастную особенность их построения, в которой одна его часть «содержит в себе описание внешности птицы, различные наблюдения над ее повадками. Эта часть очерка излагается Аксаковым в подчеркнуто строгой, «деловой» манере – в традициях, близких к физиологическому очерку «натуральной школы». Но каждый из аксаковских очерков обычно включает еще в себя своеобразную новеллу, написанную уже в ином стилистическом ключе. Здесь автор предстает перед читателем уже не в качестве строгого натуралиста, а увлекательного рассказчика, интересного собеседника, весело и непринужденно повествующего о всевозможных историях из жизни своих пернатых героев».33 Эта доверительная интонация обладает удивительной способностью выходить за пределы вставных эпизодов окрашивать весь текст в целом, формируя в сознании читателя образ автора – со своими языком, характером и индивидуальными особенностями. В охотничьих и рыболовных очерках, как в плавильном котле, из этого взаимообогащающего сочетания «лирического и эпического начал», по определению С. И. Машинского, или «филологического и естествоведческого типов мышления», по характеристике А. Чичерина34, сформировалась узнаваемая аксаковская стилистика.
Еще одной особенностью этих отрывков является их наглядность, иллюстративность. Визуальность, вкупе со стилистической и композиционной обособленностью этих эпизодов в тексте, позволяет говорить об их экфрастичности. Экфрасис – особый элемент композиции текста, целью которой является создание наглядного образа героя произведения, пейзажа. В современном литературоведении сложились две традиции использования этого термина. В узком смысле, под экфрасисом понимается словесное описание художественных предметов: картин, скульптур и архитектуры. 35 Примером экфрасиса, в таком понимании, является описание Аксаковым внешности Г. Р. Державина, восходящее к известному портрету А. А. Василевского: «Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды» (Аксаков, II, 318).36 В произведениях Аксакова можно обнаружить и другие подобные экфрасисы, но мы, в свою очередь, будем использовать этот термин в его «широком» понимании, которое сложилось еще в рамках античной риторики как «описательную речь, отчетливо являющая глазам то, что она поясняет».37 По мнению С. С. Аверницева, такой, широко понимаемый экфрасис, занимает особое место среди художественных средств литературы в целом: «Очевидно, существеннейшей частью словесного искусства необходимо признать пластичеси-объективирующее описание, «экфрасис». Из трех основных категорий, под которые так или иначе подпадает все, что пишется, – поучение, повествование, описание – только описание специфично для «художественной» литературы, как таковой, между тем как поучение и повествование в такой же мере присущи «нехудожественной» словесности».38
Наглядность аксаковских описаний птиц и рыб бросалась в глаза уже современникам писателя, стало общим местом в характеристике их использовать метафоры, отсылающие к изобразительному искусству: Гоголь, прочитав в рукописи «Записки ружейного охотника», говорил, что «ни кто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными свежими красками как Аксаков».39 Термины «пейзажная живопись», «портрет» и др. обычны в современных исследованиях творчества Аксакова. Но портретность в описании птиц и рыб – лишь частное проявление фундаментальной черты аксаковского творчества: способности словом передавать зрительные образы, визуальность – важнейшая особенность его поэтики и стилистики. Из его переписки с художником К. А. Трутовским40 мы знаем, что Аксаков сознательно ставил перед собой творческую задачу запечатлеть в слове зримые образы своих воспоминаний. По мнению Э. Дуркина, «…память Аксакова была преимущественно визуальной. В «Детских годах Багрова-внука» центральной проблемой становится акт восприятия, особенно визуального восприятия».41 С полным правом эту характеристику можно приложить и к охотничьим очеркам Аксакова, буквально переполненным яркими иллюстративными эпизодами, воссозданными им по личным воспоминаниям, прямым или опосредованным. В качестве образца приведем два примера, выбранные практически наугад среди десятков подобных: «Весьма недавно в Пресненских прудах водилось множество карпий очень крупных; народ любил кормить их калачами. В самом деле, это было забавное зрелище: как скоро бросят калач в воду, то несколько из самых крупных карпий (а иногда и одна) схватят калач и погрузят его в воду; но, не имея возможности его откусить, скоро выпустят изо рта свою добычу, которая сейчас всплывет на поверхность воды; за нею немедленно являются и карпии, уже в большем числе, и с большею жадностью и смелостью схватывают калач со всех сторон, таскают, дергают, ныряют с ним, и как скоро он немного размокнет, то разрывают на куски и проглатывают в одну минуту. Все эти проделки провожал народ громкими восклицаниями и хохотом» (Аксаков, IV, 103). «Только истинные охотники могут оценить всю прелесть этой картины, когда собака, беспрестанно останавливаясь, подойдет, наконец, вплоть к самому вальдшнепу, поднимет ногу и, дрожа, как в лихорадке, устремив страстные, очарованные, как будто позеленевшие глаза на то место, где сидит птица, станет иссеченным из камня истуканом, умрет на месте, как выражаются охотники» (Аксаков, IV, 447). Оба отрывка написаны по воспоминаниям автора, но если о первом мы можем сказать, что в нем явно преобладают личные зрительные впечатления автора, то во втором нельзя исключить присутствия еще и ассоциативных связей с широко распространенным сюжетом западно-европейской живописи.42
От простого описания экфрасис отличает особая композиционная обособленность на фоне общего повествования. Она может достигаться при переходе от повествования к описанию, от научной стилистики речи к интимно-личной, за счет смены авторской точки зрения, через замедление сюжетного времени, отступление от основной линии рассказа и иными способами. В очерках Аксакова она заявляет о себе особенно отчетливо на фоне регулярного воспроизведения от главы к главе единого по композиционной организации и стилистике «научного» описания рыбы. Обычно оно начинаются с объяснения этимологии наименования – почти всегда подчеркнуто безличного: «Имя ерша, очевидно, происходит от его наружности…» (Аксаков, IV, 83), «Плотица. Очевидно, получила свое имя от того, что она плоска…» (Аксаков, IV, 86), «Красноперка. Рыбаки называют ее плотица-красноперка…» (Аксаков, IV, 88). Затем следует такой же нейтральный рассказ о повадках рыбы, способах ее ловли, с точки зрения функциональный стилистики представляющий образцовый научно-популярный текст: монологичный, тяготеющий к нормированной речи, с широким использованием безличных предложений, именных сказуемых, терминологической лексики и т. д.
Появление ярких описательных эпизодов в тексте, как правило, мотивируется желанием обосновать то или иное утверждение примером из личного опыта – как, например, в следующем отрывке: «Многие уверяли меня, что караси бывают в десять и даже двенадцать фунтов, но я долго этому не верил. Переудивши в жизнь мою неисчетное множество карасей, я ни одного не выудил тяжелее двух с половиною фунтов. Помню я в детстве моем, как тянули неводами заливные озера по реке Белой (это было тогда, когда Оренбургская губерния называлась еще Уфимскою), как с трудом вытаскивали на зеленый берег туго набитую рыбой мотню, как вытряхивали из нее целый воз больших щук, окуней, карасей и плотвы, которые распрыгивались во все стороны; помню, что иногда удивлялись величине карасей, взвешивали их потом, и ни один не весил более пяти фунтов» (Аксаков, IV, 107). И здесь мы сталкиваемся с самой главной особенностью, выделяющую и обособляющую эти отрывки: «лирические», описательные – все они представляют собой личные воспоминания автора, своего рода мемуарные миниатюры. Это, наверное, – самая важная особенность аксаковской поэтики, к какому бы жанру ни относилось то или иное его произведение: будь то очерк, а впоследствии – рассказ, повесть, материалы к биографии – все они, благодаря присутствию ярко выраженного личностного начала, лирического героя, встроенного в образ автора, плавно перетекают в личные воспоминания, в мемуары.
Опора на изображение, наглядность является базовой чертой экфрасиса, который как элемент текста возник из описания произведения изобразительного искусства и скульптуры. Физиологический очерк вновь актуализировал эту ее родовую особенность. «Большая развитость описательного изображения»43 по сравнению с рассказом и новеллой сама по себе важнейшая особенность очерка, но в первой половине – середине XIX века и рисунок и текст по сути дела вступили в конкурентную борьбу за определяющее место в системе художественных приемов, используемых жанром. Как отмечал в своей монографии Т. К. Якимович «…в ряде очерковых изданий («Бес в Париже», «Сцены из жизни животных» и др.) рисунок оказался сильнее текста. Кроме того, А. Монье, Гранвиль, Гаварни выпускали также самостоятельные издания очеркового типа, где текст и рисунок принадлежали им самим. Домье и Филипон в равной мере были инициаторами создания крупнейшей физиологической сатиры – «Ста одного Робера Макэра»».44 Экфрастичность аксаковских очерков также усиливается за счет активного использования иллюстраций. Можно сказать, что эти иллюстрации стали неотъемлемой частью текста. Аксаков очень тщательно относился к их отбору и подготовке, обращался за советом и помощью к самому знаменитому в то время русскому естествоиспытателю К. Ф. Рулье. Не случайно, что политипажи, подготовленные и одобренные автором, продолжают использоваться при всех дальнейших переизданиях книги. «Записки ружейного охотника» до сих пор издаются с иллюстрациями из последнего прижизненного издания 1857 года. Иллюстрациями к «Запискам о рыбалке» Аксаков остался неудовлетворен, а использование в них в дальнейшем политипажей из издания 1886 года было, по мнению С. И. Машинского, «не только санкционировано сыном писателя, но, в свое время авторизовано самим С. Т. Аксаковым» (Аксаков, IV, 617).
Охотничьи и рыболовные очерки Аксакова оказали влияние на многих русских писателей, начиная с Гоголя: ««Птицы» Аксакова запестрели, защебетали на той странице второго тома «Мертвых душ», где Тентетников делает вид, что надзирает за сенокосом на заливном лугу».45 По мнению В. Шкловского, Достоевский, которым, наравне с детективным жанром, владело «увлечение реалистическим очерком», вырабатывая в период семипалатинской ссылки новую стилистику своих произведений, ориентировался на охотничьи книги Аксакова. Он, отталкиваясь от свидетельства барона А. Е. Врангеля46 о чтении им «Записок об уженьи» и «Записок ружейного охотника» писал: «Книги эти все, конечно, очень интересны, но их появление вместе, чтение их подряд уже дают представление о каком-то поиске писателя, возвращающегося в литературу. <…> Он бессознательно искал новой формы для нового содержания. И искал не один. В это время очерковая литература создала свои классические произведения».47 Неудивительно поэтому, что произведение, служившее школой стилистики для других, стало отправной точкой в процессе формирования языка прозы и самого Аксакова. В «Семейной хронике», «Детских годах Багрова-внука» и даже «Литературных и театральных воспоминаниях» можно обнаружить множество экфрастичных эпизодов с описаниями природы, охоты и рыбалки. В одном из последних произведений Аксакова «Собирание бабочек» подспудная познавательная доминанта, свойственная очерку, обнажается как особый художественный прием. Возможно, именно это Т. Аксаковский синтез научности и художественности был настолько неприятен Набокову, что спровоцировал в нем ревность как к этому произведению48, так и к личности Сергея Тимофеевича, своего дальнего родственника.49 Унаследованные реалистическим очерком из эпохи доминирования морально-риторической системы отношение к литературе как форме познавательной деятельности и экфрастичность, наглядность в передаче образов слились в мемуарной прозе Аксакова с выработанной в недрах литературы нового времени лиричностью и эмоциональной открытостью авторского слова.
3. Вымысел и реальность в мемуарной прозе Аксакова.
Литературный процесс являет себя через взаимосвязь между самыми, на первый взгляд, отдаленными друг от друга явлениями. На примере охотничьих книг Аксакова мы рассмотрели как лиричность, описательность и познавательная направленность переплетаются на страницах одного отдельно взятого произведения, но подобные, сложные отношения могут возникать и между целыми литературными направлениями и жанрами. «Записки о рыбалке» вышли свет в знаменательном для истории «натуральной школы» 1847 году. Друг, ученик, единомышленник Гоголя, он, в силу яркой индивидуальности таланта, оказался формально вне списка авторов школы, носившей имя «гоголевской». В своем «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский никак не упоминает об опубликованной только что книге о рыбалке. Эта фигура умолчания сама по себе чрезвычайно интересна. В силу своих противоречивых, но тесных взаимоотношений с семьей Аксаковых, Белинский не мог не знать о работе Сергея Тимофеевича над этой книгой и о выходе ее в свет. Критик высоко оценивал его писательский талант: в том же году в статье «Ответ «Москвитянину»» он поставил его наравне с гоголевским: «Мы знаем, что гг. московские славянофилы могут указать нам с торжеством по крайней мере на два знаменитые в литературе имени, как такие, которые, если бы и не принадлежали им вполне, то более или менее симпатизируют с ними».50 Тем не менее, в контексте творческой биографии С. Т. Аксакова статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» играет особую роль, поскольку в ней зафиксирована возникающая еще только тенденция к взаимодействию мемуаристики, исторического романа и очерка – тенденция, определившая главную особенность всей зрелой аксаковской прозы: «Сближение искусства с жизнию, вымысла – с действительностию в наш век особенно выразилось в историческом романе. Отсюда был только шаг до истинного воззрения на мемуары, в которых такую важную роль играют очерки характеров и лиц. Если очерки живы, увлекательны – значит они не копии, не списки, всегда бледные, ничего не выражающие, а художественное воспроизведение лиц и событий».51 Исторический роман, очерк и мемуары были обречены на то, чтобы вступить во взаимодействие, и примечательно то, что Белинский в середине XIX столетия выделяет практически ту же самую триаду, что и, спустя три четверти века, Б. Эйхенбаум, соотнося эти жанры по признаку общности способов художественного отражения реальности, диалектике вымысла и действительности.
Мы уже отмечали, что, стремясь заставить читателя поверить в реальность вымышленного персонажа, роман часто облекался в костюм мемуаров; к 40-м годам XIX века эту литературную моду перенял и очерк. Во Франции, на родине жанра физиологии, появился такой феномен, как вымышленные мемуары, написанные от лица героя очеркового цикла. Классическим образцом их стала анонимная книга «Роббер Макэр» вышедшая в 1841 году. Т. К Якимович так характеризует это замечательное произведение, оказавшее, кроме литературы, существенное влияние и на живопись, театр, кинематограф: «Мемуары Робера Макэра, занимающие том в 306 страниц, по литературному оформлению близки к традициям плутовского романа и авантюрно-бытовой прозы XVIII столетия. Неизвестного автора занимает преимущественно криминальная сторона биографии героя, разработанная в книге с большими подробностями. Место приключений Робера Макэра – почти вся Франция, исторические рамки: Реставрация и Июльская монархия».52 Стилизация под мемуары расширяла арсенал художественных приемов: особенно там, где автору требовалось мотивировать циклизацию очерка, расширить границы мира, в котором существовал герой. Однако это не единственная причина, обусловившая взаимодействие очерка с мемуарами. Так сложилось, что очерковый стиль был самой популярной, даже доминирующей формой русской мемуаристики первой половины XIX века. А. Г. Тартаковский обращает внимание на то, что подавляющее большинство воспоминаний в это время носили характер коротких записок на ту или иную тему – объемные мемуары, объединенные большой темой, можно пересчитать по пальцам двух рук.53 Этому есть довольно простое объяснение: стилистика очерка – лаконичная, ориентированная на описательность и документальность – позволяла авторам менее заботиться о художественной отделке своих произведений, не сковывала их излишними литературными условностями, которые возникают там, где присутствует вымысел.
До середины XIX столетия мемуары и очерк находились по одну сторону черты, разделявшей пространство литературы на две части: художественную и документальную. Вымысел и реальность, на протяжении столетий были ключевыми категориями литературы, определявшими не только индивидуальные особенности стиля того или иного автора, но и фундаментальные характеристики жанров, границы между ними, как писала об этом Л. Я. Гинзбург: «Литература вымысла черпает свой материал из действительности, поглощая его художественной структурой; фактическая достоверность изображаемого, в частности происхождение из личного опыта писателя, становится эстетически безразличной (она, конечно, существенна для творческой истории произведения). Документальная же литература живет открытой соотнесенностью и борьбой двух этих начал. Судьбы людей, рассказанные историками и мемуаристами, трагичны и смешны, прекрасны и безобразны. И все же различие между миром бывшего и миром поэтического вымысла не стирается никогда. Особое качество документальной литературы – в той установке на подлинность, ощущение которой не покидает читателя, но которая далеко не всегда равна фактической точности».54 В античности граница между литературами вымысла и реальности почти совпадала с линией водораздела между поэтикой и риторикой. Рождение романа внесло творческий беспорядок в этот упорядоченный мир родов и жанров литературы. Все перипетии истории его развития, вплоть до наших дней, вращаются вокруг соотношения правды и вымысла, перекраивания границ между ними. Смута, порожденная романом, по-своему отозвалась и в мемуаристике.
Требование фактической точности на протяжении веков было основным критерием качества документальной прозы. Появление нового отношения к осмыслению действительности, в котором чувство стало равноправным партнером разума, легализовало вымысел в документальной прозе, и не только оправдало его присутствие, но и обосновало его познавательную и художественную ценность. Так «требование фактической точности» в мемуарной литературе уступило место «установке на подлинность», что впервые в нашей литературе наиболее ярко заявило о себе именно в произведениях Аксакова. Чтобы осознать, насколько это было поразительно для современников, сошлюсь на свидетельство А. С. Хомякова, который в своей статье невольно зафиксировал появление нового подхода к восприятию мемуарной литературы, дал ему замечательную характеристику: «Художественная стихия заключается в его [Аксакова] вымысле. Кажется, странно говорить о вымысле там, где пересказывалось все действительно бывшее; но это только кажется. Происшествия, чувства, речи остаются в памяти только отрывками. Воспоминание воссоздает целое из этих отрывков и восполняет все недостающее, все оставшееся в пробелах. <…> Только глубоко художественное чувство может всегда придавать этой смеси совершенную гармонию и вносить в создание воображения, пополняющего отрывочные данные памяти, тот характер внутренней правды, который не допускает ни малейшую тень сомнения в читателе».55
Нельзя не отметить замечательную филологическую проницательность Хомякова, сумевшего еще в XIX веке, на примере творчества Аксакова, увидеть эту базовую, жанрообразующую черту новой мемуаристики, «переоткрытую» более чем век спустя Лидией Гинзбург и давшей ей, в своей книге «О психологической прозе», почти дословно совпадающую характеристику: «Никакой разговор, если он сразу же не был записан, не может быть через годы воспроизведен в своей словесной конкретности. Никакое событие внешнего мира не может быть известно мемуаристу во всей полноте мыслей, переживаний, побуждений его участников – он может о них только догадываться. Так угол зрения перестраивает материал, а воображение неудержимо стремится восполнить его пробелы – подправить, динамизировать, договорить. Понятно, что в своих автобиографиях и мемуарах большие мыслители и художники в особенности поддавались этим соблазнам».56
Надо сказать, что сам Аксаков неоднократно сетовал на свою неспособность к вымыслу, созданию произведений с придуманным сюжетом и персонажами – в этом он видел едва ли не главную особенность своего творчества, «авторскую тайну»: «Близкие люди не раз слыхали от меня, – писал Аксаков критику М. Ф. Де Пуле, – что у меня нет свободного творчества, что я могу писать, только стоя на почве действительности, идя за нитью истинного события; что все мои попытки в другом роде оказывались вовсе неудовлетворительными и убедили меня, что даром чистого вымысла я вовсе не владею».57 Сложно сказать, насколько объективны подобные признания. Даже если они не продиктованы личной скромностью, их нельзя распространять на все аспекты творчества писателя. Сюжеты аксаковских произведений, конечно, в большинстве своем, построены на реальных событиях жизни автора, но соотношение художественного вымысли и правды в каждом отдельном эпизоде далеко не всегда будет в пользу второй.
Творчеству Аксакова присущ особый парадокс: несоответствие между тем образом, который возникает из его воспоминаний о своей юности, и того, который мы можем реконструировать из документов. Ярче всего в этом отношении заявляет о себе странное противоречие между декларируемой в мемуарах приверженностью к шишковизму и карамзинизмом в собственной литературной практике, известное нам из сохранившихся писем двадцатилетнего Аксакова. Ниже мы рассмотрим его подробнее. Подобные многочисленные неувязки, особенно в описаниях Аксаковым своего раннего детства, подвели Эстер Саламан к мысли о существовании особой, «автобиографической парадигмы», связывающей разных писателей общей психологией творческого процесса: «Утверждать существование общей автобиографической парадигмы Аксакова и Де Квинси нам позволяет то, что мы знаем об общем процессе их восстановления в памяти прошлого. Являясь литераторами на протяжении всей своей жизни, они лишь в конце ее обрели успех, вдохнув жизнь в свои детские и юношеские воспоминания. Психологам стоит изучить то, что Аксаков и Де Квинси с их даром к самопознанию, все еще не знали самих себя в шестидесятилетнем возрасте, пока крайне важные для них воспоминания, все еще остававшиеся за границей сознания, не были, наконец, возрождены».58 Даже, относясь критически к психоаналитической методологии, применяемой в своих исследованиях Эстер Саламан, нельзя не признать, что в необъективности взгляда Аксакова-мемуариста на себя самого проявляется общая закономерность мемуаротворчества – неравенство автора себе самому как персонажу. В своих воспоминаниях «Детям моим» о. Павел Флоренский дал яркую характеристику этого явления: «Дневники, письма и записи принадлежат мне же, и было бы глубокой погрешностью опираться на них как на безусловную правду, только за их современность. Измерять ими истинность позднейших воспоминаний – это значит признавать полную мою тогдашнюю беспристрастность к себе самому и к другим и какую-то нечеловеческую мудрость, позволяющую оценивать смысл и значение событий самих по себе, помимо общих линий жизни. Современные записи по необходимости субъективнее, чем позднейший взгляд на те же события, уже обобщающий и имеющий основание выдвигать вперед или отодвигать назад то или другое частное обстоятельство. Многое, что за шумом жизни не было тогда услышано достаточно внимательно, по дальнейшему ходу событий выяснилось как самое существенное, тогда как много и очень много волновавшего прошло почти бесследно».59 Возможно, в этом кроется причина того, что в своих произведениях, за исключением «Истории моего знакомства с Гоголем» Аксаков практически никогда не использует впрямую материалы из семейного архива. Лишь иногда он иллюстрирует ими отдельные эпизоды. Так, к примеру, в конце «Воспоминаний» он цитирует свои детские стихи (Аксаков II, 146). «Установка на подлинность», родовая черта документальных жанров в его творчестве вырастает из совершенно неожиданного корня: из утверждения права на личную авторскую субъективность. Свои «Литературные и театральные воспоминания» Аксаков начинает совершенно неожиданной для того времени декларацией: «Я нисколько не беру на себя обязанности библиографа или биографа, я не собираю сведений из устных и печатных, разбросанных по журналам и брошюркам: я стану рассказывать только то, что видел и слышал сам при моих встречах с разными литераторами» (Аксаков III, 8). Опора почти исключительно на свою память, декларируемая субъективность, по мнению Б. Аверина, выделяют Аксакова как образцового представителя и даже родоначальника того направления русской автобиографической прозы, произведения которой «содержат в своем основании ту или иную концепцию собственной жизни и, в особенности, – ее исторического контекста».60
Концептуальность мемуарного произведения не равнозначна авторскому своеволию, поскольку любой мемуарист, по природе своей историк, – исследователь. Само слово «мемуары» означало, кроме личных воспоминаний, еще и ученые труды, издаваемые каким-либо научным сообществом.61 Труды Лейбница, воспоминания Сен-Симона, и то и другое – мемуары. Причем, как отмечала Лидия Гинзбург, работая над своими записками, сам Сен-Симон считал, что он пишет историческое сочинение, историю особого типа, частную, в отличие от – общей.62
Разложение морально-риторической системы ускорило процесс разделения сфер исторической науки и литературы, но существовала и противоположная тенденция. Так события 1812 года внесли неожиданные коррективы в этот процесс: «[Война] вызвала широкий интерес к русской истории. Ответом на него была «История государства российского» Н. М. Карамзина, построенная на летописном материале. Пушкин увидел в этом труде отражение самого духа летописи и назвал Н. М. Карамзина «последним летописцем»».63 Интерес к прошлому захлестнул литературу, и вслед за Карамзиным многие русские писатели стали историками и по профессии, и по призванию: Гоголь пытается преподавать историю, Пушкин пишет «Историю Пугачева», способствует написанию и публикации мемуаров А. О. Смирновой, М. С. Щепкина, Н. А. Дуровой, записывает и редактирует воспоминания своего друга П. В. Нащокина64, возможно, задумывая положить их в основу сюжета будущего романа. В итоге в первой половине XIX века границы между литературным творчеством и историческим исследованием снова оказались размыты – начался, как выразился И. П. Еремин, «рецидив летописного стиля».65 Вместе с интересом к прошлому в литературу неизбежно должны были вернуться и элементы риторической стилистики. Пусть они не вернули свое универсальное значение, зато вновь обрели актуальность, встали в ряд общеупотребительных художественных средств.
Второй «рецидив летописного стиля» пришелся на начало 50-х годов. Стимулировали его, по мнению Б. Эйхенбаума, Крымская война и полемика западников и славянофилов.66 Естественно, С. Т. Аксаков не мог остаться в стороне от этого процесса. Атмосфера, царившая в доме, ученые изыскания любимого сына Константина, дух времени захватили и его – несмотря на возраст и сдержанный темперамент. Отдал он дань и науке: в его наследии есть небольшое историческо-филологическое исследование «Пояснительная заметка к «Уряднику сокольничья пути»», но все же главным, в чем это веяние духа времени оказало влияние на аксаковское творчество, стала отмеченная выше специфическая концептуальность его мемуаристики.
Субъективность мемуариста ограничивается не только такими внутренними факторами, как предзаданная в авторском сознании концепция собственной биографии, не только самосознанием себя в качестве историка, но внешним влиянием со стороны существующих в обществе стереотипов восприятия. В частности, говоря об «установке на подлинность» как важнейшей характеристике мемуарной прозы первой половины XIX столетия, необходимо учитывать то обстоятельство, что сама категория «подлинность», начиная с эпохи Просвещения, воспринималась не безусловно, а как результат правильной идейной ориентации; как следование природе и общественному идеалу: «Требование к подлинности не только затрудняло возникновение незашоренного видения, но и ограничивало возможности путешественника [мемуариста] обращаться к собственной субъективности. Грубо говоря, в русском контексте подлинность означала одно из двух: приверженность к природе или лояльность к обществу. В этом смысле Радищев и Карамзин могут считаться прототипами: первый отстаивал обращение к природе, представляемое в эссенциалистских понятиях, второй – приспособление к социальным нормам».67 Аксаковское восприятие категории «подлинность» балансировало между этими крайними формами – тем более, что к середине века устоявшиеся представления подвергались коренному пересмотру: руссоистские представления о природе и естественном человеке сплетались в запутанный клубок с идеализацией отдельных форм социального устройства. Ключевую роль в этом играл все тот же свойственный эпохе обостренный интерес к истории: в частности, близкое Аксакову славянофильство выработало свою концепцию «подлинности», в которой место природы заняла народность, а социальные нормы осмыслялись в контексте прошлого.
Известно, что тесная связь, существовавшая между исторической наукой и литературой в первой половине XIX века, заметнее всего заявила о себе в росте популярности исторического романа. Вальтер Скотт стал законодателем этой моды во всей европейской литературе. Мы уже цитировали выше Белинского, который видел в этом явлении свидетельство глобального процесса «сближения искусства с жизнию, вымысла – с действительностию». Однако влиятельность исторического романа возникла не на пустом месте. В своей замечательной работе «Повести о прозе» В. Шкловский показал, что на протяжении всей своей истории роман был полем битвы за историзм в литературе. Именно этому жанру было суждено найти выход из сложнейшего эстетического противоречия, без которого исторический факт не мог стать предметом художественного изображения: «Герой художественного произведения выражает общее, история – частное. Общее состоит в том, что анализируется человек, обладающий определенными качествами, и изображается то, что он должен говорить или делать. А частное состоит в том, «что сделал Алкивиад или что с ним случилось». Таким образом, история имеет перед собой в предмете некоторые его черты, которые могли бы быть удалены, но не удаляются, потому что они на самом деле произошли».68 Решение этой проблемы было долгим и многоэтапным: столетия понадобились для того, чтобы литература осознала: понятия «вымысел» и «ложь» не равнозначны; рассказ о вымышленном персонаже может быть так же правдив, как и биография реального человека; творческая фантазия в не меньшей мере способствует познанию мира, чем наблюдение и описание реально происходящих событий. Более тысячелетия понадобилось, чтобы антитеза «фантасии» и «мимесиса» сменилась их синтезом, легшим в основание эстетики нового времени.69 Выход в свет «Истории Тома Джонса, найденыша» Филдинга ознаменовал решительный перелом – передним краем борьбы стала не историчность вымышленного персонажа, а историчность вымышленного события, факта. Наконец, в первой трети XIX века роман набрал силу для осмысления не только частностей индивидуальной жизни персонажа, но и общих проблем исторического процесса, как писал об этом Пушкин: «В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании».70 Процесс этот продолжается до сих пор – тем более полтора века назад он был на пике своей болезненности и противоречивости.71
В середине XIX века роман занял ключевое место в литературе. К этому времени, миновав несколько веков развития, в рамках этого жанра сформировалось множество разновидностей, каждая из которых имела свою тематику, стилистику и топику. Романы: бытовой, авантюрный, эпистолярный, воспитания и многие другие – имели сложившиеся наборы сюжетов, архетипов и мотивов. Все это создавало огромное контекстуальное поле романной традиции. Естественно, оно не было замкнуто в себе, и любой автор-беллетрист мог свободно черпать из него все необходимое для себя. Мемуаристы тоже – по мере вхождения их жанра в сферу большой литературы и приобретения свободы в выборе художественных средств – получили эту возможность.
Есть одна особенность, определяющая специфику развития русской мемуаристики в аспекте ее взаимоотношений с романом. Если в период своего расцвета в западно-европейской – в частности, во французской – литературе XVII – XVIII веков мемуары были канонизированным, официальным жанром, а роман еще только отвоевывал свое место в литературе, то русская мемуаристика вступила в фазу жанрового роста в условиях доминирующего положения романа. В документальной прозе у нас не было жанра, равнозначного ему по влиянию, или по числу текстов, сравнимого с количеством «автобиографий» в западной литературе того времени. В итоге, как отмечает И. Савкина, «та личностно-исповедальная линия, о которой прежде всего говорят на Западе, употребляя понятие autobiography, в русской литературе XIX и отчасти XX века в большей степени воплотилась в романе или повести на автобиографическом материале – типа произведений С. Аксакова <…> или Л. Толстого. Названный жанр художественной (fiction) литературы принял на себя те признаки, которые связываются у большинства западных ученых с понятием «настоящей» автобиографии: тема становления личности, акцент на персональном, на психологических процессах самосознания и другие».72 Примечательно, что эти темы и акценты, по классификации западных литературоведов, характерные, в первую очередь, для документальной литературы, в нашей традиции разрабатывались преимущественно беллетристикой и уже из нее перекочевывали в мемуарно-автобиографическую прозу. Такая ситуация, кроме прочего, породила и неразрешимую проблему жанровой характеристики «Семейной хроники» и других произведений Аксакова.
В основе давней проблемы аксакововедения, к какому жанру относить «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», лежит конфликт текста и контекста. Мы ведь только из внешних, по отношению к произведению, источников знаем, что это не творческий вымысел, а воспоминания автора; что в основе сюжета лежит история реально существовавшей семьи. Но предположим, хотя бы гипотетически, что не были бы написаны «Воспоминания» Аксакова, в которых он раскрыл истинные имена прототипов героев «Семейной хроники», не настолько сильно было бы укоренено в нашем культурном сознании представление об Аксакове, как о писателе-мемуаристе – возникла бы тогда проблема жанра этого произведения? Ведь если мы подойдем с точки зрения имманентного анализа текста, исходя из того, что мы можем прочесть в книге и вынеся за скобки все, что мы знаем из посторонних источников, то что мы увидим? – Повествование о некой семье, которое ведется от третьего лица, почти всезнающего автора. Словесная форма произведения, благодаря ярко выраженной ориентации на устную речь, очень близка к сказовой. Книгу отличает чрезвычайно сложная композиция, с многочисленными отступлениями и вставными эпизодами, некоторые из которых стилизованы под личные воспоминания рассказчика, запутанной хронологией событий, частой сменой авторской точки зрения. Весь перечисленный набор признаков, безусловно, позволял бы нам отнести это произведение к жанру романа, если бы не наше априорное знание о том, что мы читаем личные воспоминания автора.
Многочисленные художественные приемы и мотивы, свойственные роману, общий контекст, выработанной этим жанром традиции, можно обнаружить во многих произведениях Аксакова. Наиболее заметны связи аксаковской мемуаристики с романом бытовым и воспитания. Типичным злодеем готического романа является Куролесов из второго отрывка «Семейной хроники». С самого начала рассказа о его помолвке с Прасковью Ивановной описание его внешности и поведения настраивает на негативное восприятие его читателем и на ожидание трагической развязки. Сама развязка эта также соответствует традиции жанра: внешне добропорядочный человек оказывается злодеем, а смерть его – закономерной, справедливой и таинственной. Изображение Прасковьи Ивановны также укладывается в рамки образа героини готического романа. Она – безропотная жертва супруга-злодея и только чудом спасается от гибели. Даже в таком практически рафинированном мемуарном произведении, как «Воспоминания», В. Э. Вацуро отмечал присутствие мотивов, связанных с традицией готического романа: «Устное предание сливалось с литературными впечатлениями. Огромное белое здание Казанской гимназии с ярко-зеленой крышей и куполом кажется мальчику С. Аксакову «страшным очарованным замком», о котором он «читывал в книжках», «тюрьмою», где он будет «колодником»».73 Сюжет и стиль неоконченной повести «Наташа», по мнению исследователей, несет в себе еще больше элементов романной традиции, чем другие произведения Аксакова.74 Далее, во второй части нашей работы, мы подробно рассмотрим мотивно-сюжетную систему «Семейной хроники» в связи ее с семейной тематикой, а пока ограничимся лишь общими замечаниями.
Использование мотивов, традиционно связанных с романом, вполне естественно. Особенностью же аксаковского творчества является то, что присутствуют они в мемуарном произведении. Вспомним основополагающий принцип, сформулированный Л. Я. Гинзбург: «Для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязательна организация – отбор и творческое сочетание элементов, отраженных и преображенных словом».75 В этом отношении, главным результатом творческого эксперимента, поставленного Аксаковым, стало то, что мемуарист получил широкую свободу в выборе художественных средств. Теперь было не обязательно следовать хронологической последовательности в повествовании, что Аксаков и использовал в композиции «Семейной хроники». Кроме того, в своих произведениях он теперь мог органично сочетать отрывки, жанрово близкие очерку и новелле; широко использовать личную переписку; эпизоды, написанные по личным воспоминаниям и от первого лица и развернутые монологи своих персонажей: Шишкова, Шушерина и др. Все это не просто расширило внешний арсенал возможностей автора – изменения проникли в самую глубину мемуарной поэтики, и самым значительным следствием всего этого стал новый для мемуаристики образ взаимодействия с контекстом романной традиции: когда именно она начинает «диктовать» отбор событий из реальной жизни. Автором-мемуаристом отбираются для своего произведения именно те сюжетные линии и такие герои, которые могли бы быть интересны человеку, на этой традиции воспитанному. Аксаков как бы играет с читательскими ожиданиями, в которых узнаваемая «романность» рассказываемой истории, с одной стороны, и ее реальность – с другой, взаимодействуя между собой, создают специфическое внутреннее сюжетное напряжение.
Новый, «романизированный» метод отбора элементов содержания не мог не сказаться на работе мемуариста с историческим материалом, но здесь он приобрел особое преломление. Для романиста любое историческое событие имеет вспомогательное значение – как копилка фактов для воссоздания антуража эпохи, психологических типов, – не сковывая фантазию автора в отношении содержания и сюжета книги. В свою очередь, «научный подход» требует от мемуариста не только скрупулезности в изложении деталей, требовательности в отношении достоверности и «фактической точности» описанных событий, но и определяет саму фабулу повествования, диктует отбор материала, запрещая неоправданное уклонение от темы исследования. Аксаков, балансируя между этими подходами, взял за правило в своих воспоминаниях быть сосредоточенным на литературной и театральной жизни и сводить к минимуму упоминания обо всем, что не имеет к ней прямого отношения. Лишь кратко он упоминает о нескольких годах, проведенных в деревне, о смерти императора Александра I и том, как в провинции воспринимались политические перипетии декабря 1824 года.
Для становления русской мемуаристики осмысление Отечественной войны 1812 года имело еще большее значение, чем для историографии и художественной литературы: на протяжении почти трех десятилетий военные записки доминировали в ней. Можно сказать, что сложилась целая традиция, или особый подвид русской мемуарной литературы, посвященный той войне. Такие близкие Аксакову люди, как Адмирал Шишков и Федор Глинка, уже в 30-е годы опубликовали свои книги о ней. Поэтому вполне ожидаемо было, что «Литературные и театральные воспоминания» человека того поколения также начинаются главой, посвященной 1812году, но ее содержание оказалось совершенно неожиданным. Ю. М. Лотман, в одной из своих работ, разделил произведения литературы на два типа с точки зрения их отношения к априорным ожиданиям читателя.76 Первый основан на традиционной, риторической «эстетике тождества», в основании которой лежит стремление соответствовать им, подтверждать эти ожидания, создавая ощущение стабильности художественного мира; он ориентирует читателя не на поиск новой информации, а на узнавание в тексте заранее известных ему моделей. Для второго, завоевавшего доминирующее положение в литературе нового времени, основополагающим приемом оказывается «эффект неожиданности»: когда непредсказуемость содержания или формы держит читателя в состоянии внутреннего напряжения. Следуя этой классификации, начальные страницы «Литературных и театральных воспоминаний» Аксакова, безусловно, относятся к последнему типу. Содержание первой главы совершенно непредсказуемо для мемуарного произведения того времени: читая ее, мы многое узнаем о жизни кружка московских писателей, в который входили Н. М. Шатров, Ф. Ф. Кокошкин, Н. И. Ильин и др., об их интересах, чудачествах и, вопреки сложившийся традиции, читательским ожиданиям и даже здравому смыслу, не обнаруживаем ничего о нашествии Наполеона (sic!). Чтобы осознать всю неожиданность такого сюжетного поворота, представим себе «Войну и мир», из которой вычеркнуто почти все, что касается событий Отечественной войны 1812-го года.
Конечно же, такому отступлению от сложившейся традиции есть формальное объяснение: своего рода, писательская скромность, не позволявшая автору писать о событиях, в которых он не принимал активное участие. Кроме того, Аксаков скрупулезно придерживался «принципа единства темы», поэтому рассказ о военных действиях не мог найти себе места в «литературных и театральных» воспоминаниях, и как бы подчеркивая это, он заканчивает первую главу строгой и лаконичной записью: «Этим ограничиваются мои литературные и театральные воспоминания 1812 года» (Аксаков III, 24).77 Однако подобное объяснение недостаточно проясняет внутренние причины идейной позиции автора, поскольку для понимания ее, знать, о чем автор умалчивает, не менее важно, чем внимательно прочесть то, о чем он пишет. Развивая свои идеи о диалектике вымысла и художественной организации текста, Лидия Гинзбург отмечала, что: «Момент выдумки необязателен для литературы (может быть, для искусства вообще), первичны и обязательны моменты выборки (отбора) и пропуска – это две стороны процесса художнического изменения материала. Каждый сознательный и целеустремленный пропуск части признаков при изображении предмета является уже рудиментом искусства (какие бы он ни преследовали практические цели)».78 Недаром среди всего разнообразия средств, выработанных классической античной риторикой, именно фигура умолчания (паралипсис, апосиопеза) пережил в XIX столетии свое второе рождение – пережил вопреки, а может быть, и благодаря разрушению морально-риторической системы.79 Вспомним еще раз мнение В. Шкловского, который видел в проблеме художественного умолчания ключ к пониманию различия научно-исторического и литературного метода постижения действительности. Право умолчать о чем-то ради достижения художественного эффекта, бывшее важнейшей привилегией писателя перед историком, стало еще и отличительной чертой новой «беллетризованной» мемуаристики по сравнению со старой «риторической».
Это, наверно, – один из главных парадоксов творчества Аксакова: будучи связанным «родственными» узами со славянофильством, идейным течением, которое мыслило масштабами национальнозначимых исторических событий, сам он смотрел на историю глазами частного человека. Аксаков сознательно выносит за скобки все, что выходит за рамки обыденной жизни, как правило, не жалея времени на пересказ забавных происшествий с героями его воспоминаний. Когда же заходит речь об участии персонажей в событиях большой истории, он ограничивается скупыми упоминаниями о них, а то и просто свертывает повествование. Это видно в эпизоде посвященном Глинке: «Много наслушался я любопытнейших рассказов от С. Н. Глинки, который сам был действующим лицом в этом великом событии; долго, при каждом свидании, я упрашивал его рассказать еще что-нибудь, но все имеет свой конец, и незаметно перешли мы с ним от событий громадных к мелким делам, житейским и литературным» (Аксаков III, 25—26). Этот тематический переход в их разговорах отнюдь не был случайным: можно сказать, что Аксакову органически был присущ взгляд на историю сквозь призму повседневности, а отсюда – и особая писательская «застенчивость», проявлявшаяся в акцентировании внимания на мелочах, характеризующих дух эпохи. Именно такое тематическое и даже стилистическое соскальзывание к мелкой детали наглядно проявляется в непосредственно затем следующем рассказе о награждении Глинки медалью: «В 1812 году, когда император Александр приезжал в Москву, Сергей Николаевич Глинка получил орден св. Владимира 4-й степени «за любовь к отечеству, доказанную сочинениями и деяниями», как сказано было в высочайшем рескрипте. Я сам читал этот рескрипт: он особенно замечателен потому, что был написан на листочке самой простой почтовой бумаги и написан рукою А. С. Шишкова. Это обстоятельство вполне выражает время: видно, тогда было не до того, чтобы соблюдать обыкновенные приличия и формы» (Аксаков III, 26). Обратим внимание на то, как официально-канцелярская стилистка рассказа соскальзывает к повседневно-бытовой. В своих мемуарно-биографических произведениях Аксаков, сохраняя присущую жанру авторскую позицию исследователя-историка, кардинально сменил ее тематику, а также регистр – с «высокого» на «низкий», так, в итоге, она приблизилась к той, которая была свойственна историческому роману. Он также, по замечанию Белинского, «отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, составляющим его содержание; но через это он разоблачает перед нами внутреннюю сторону, изнанку, так сказать, исторических фактов, вводит нас в кабинет и спальню исторического лица, делает нас свидетелями его домашнего быта, его семейных тайн, показывает его нам не только в парадном историческом мундире, но и в халате с колпаком. Колорит страны и века, их обычаи и нравы выказываются в каждой черте исторического романа, хотя и не составляют его цели. И потому исторический роман есть как бы точка, в которой история, как наука, сливается с искусством; есть дополнение истории, ее другая сторона».80
Самоограничение, осторожность Аксакова в отношении рассказа о событиях Отечественной войны имело еще одну причину: перед ним был пример неудачной попытки своего друга Загоскина написать на эту тему роман «Рославлев, или Русские в 1812 году». В «Биографии Михаила Николаевича Загоскина», написанной за несколько лет до «Литературных и театральных воспоминаний», но близкой им и по стилю, и по содержанию, Аксаков сформулировал, в чем он видит основной недостаток этого произведения: «Потеряв достоинство голого факта, силу действительности, происшествие не имело и достоинства вымысла, ибо все его знали. Написать же картину двенадцатого года – мысль необдуманно смелая. Еще все актеры, кончивши великую драму, полные ею, стояли в каком-то неясном волнении, смотря с изумлением на опустевшую сцену их действий – как вдруг начинают им представлять их самих; многим из них это показалось кукольной комедией. К тому же справедливость требует сказать, что самые частности, так сказать, лоскутки картины двенадцатого года, кроме некоторых сцен (как, например, превосходной сцены ямщиков), в «Рославлеве» слабы и односторонни, а характеры действующих лиц мелки, хотя многие из них написаны очень верно и забавно. Одним словом: выбор такого содержания был ошибкой Загоскина. Вспомним, что Вальтер Скотт испытал падение со своей историей Наполеона, написанной слишком рано».81 Как мы видим, Аксаков остро ощущал наличие внутреннего конфликта между правдой исторической и художественной. Его разрешение он видел в осторожном подходе к теме и содержанию произведения, тщательном отборе фактов и персонажей романа. Не будет большой натяжкой предположить, что и в отношении своих воспоминаний он руководствовался такими же принципами.
5. Особенности поэтики «Истории моего знакомства с Гоголем».
Основу для будущего обновления жанра, для взаимодействия мемуаристики с художественной литературой в целом и с романом в частности подготовил еще сентиментализм. Известно, что периферические, документальные жанры – такие, как письма, дневники и мемуары – были питательной средой, в которой формировались эстетические принципы этого направления. Особенно продуктивным в этом отношении оказалось взаимодействие романа с эпистолярным жанром. Мемуаристы также начинают экспериментировать в этой сфере: еще А. Т. Болотов свои записки облек в форму писем другу. Этот прием, ко времени написания записок прочно ассоциировавшийся с романом, а также стилистика повествования позволили В. В. Сиповскому дать им такую характеристику: «Есть мемуары, которые сбиваются на роман, – таковы, например, записки Болотова».82 И Болотов был в этом отнюдь не одинок, М. В. Данилов в своих записках тоже использовал эпистолярную стилистику. Документалистская ориентация жанра предоставила возможность использования реальной переписки с целью введения интимно-личностного начала в мемуары. Эпистолярной по форме была ранняя редакция «Записок императрицы Екатерины II».83 Интимность, семейность «Записок» Е. Р. Дашковой определялась стилем переписки ее с Мартой Вильмонт, и по большому счету они представляют собой развернутое письмо к ней.84 В первое издание Записок были включены письма к княгине от Екатерины II, Дидро и других, а также некоторые из писем самой Дашковой. Многие мемуарные произведения, написанные в XIX веке, также выросли из частной переписки85. Открытый русскими формалистами процесс «канонизации периферийных жанров»86, традиционно прослеживаемый на примере романа, с не меньшим успехом может быть проиллюстрирован этой линией эпистолярных мемуаров, особое место в которой занимает «История моего знакомства с Гоголем» Аксакова.
Творчеству Аксакова свойственно много парадоксов. Один из них – разрыв между идеологическими взглядами, исповедуемых им на протяжении своей жизни и литературной практикой, которой он придерживался в творчестве. С отроческих лет он заявлял о своей приверженности к литературному лагерю «славян», шишковистов, молодым человеком участвовал в заседаниях «Беседы любителей российского слова», но юношеские его стихи и письма, которые он пишет своей невесте, поражают своей сентиментальной стилистикой. Сохранился альбом, который вел Аксаков в 1916 году. Среди записей, оставленных в нем, присутствуют и стихотворения, и проза: «…с постоянным повторением слова «ах», и размышления на тему о нежности чувств и о жестокости любви…».87 Обнаруживший этот альбом Владимир Шенрок дает стилю молодого Аксакова такую резкую, но справедливую оценку: «… невольно изумляешься, читая эти письма, написанные совершенно в карамзинистском стиле одним из ревностных сторонников Шишкова и, следовательно, как бы противником Карамзина. Письма эти являются, таким образом, вполне типическим порождением с одной стороны своего времени и данью существовавшим тогда общественным и литературным вкусам; с другой, на наш взгляд они не носят на себе ни малейшей печати оригинальности, которую невольно ожидаешь встретить в строках такого необыкновенного человека как С. Т. Аксаков».88 Действительно: любой, кто читал воспоминания Аксакова о его юности, не может не быть обескуражен тем, насколько автобиографический образ, созданный им в зрелые годы, расходится с тем, который возникает при прочтении этого альбома. В зрелые годы Аксаков осознавал наличие этого противоречия, но не акцентировал на нем внимания.89
История с юношеским альбомом Аксакова дает ключ к пониманию важнейшей особенности его творчества в целом, и мемуарного в особенности: внутренней интенцией его писательства было преодоление сентиментализма, к которому он эмоционально тяготел, но как целостную систему не принимал. Не будем поддаваться искушению видеть истоки этого противоречия в индивидуальной психологии писателя: его душевность и доброта не оставляли равнодушным никого, кто хоть на короткое время оказывался в близком ему кругу – обратимся к иным причинам. Сентиментализм как идейное течение вызывал в Аксакове, стороннике идей А. С Шишкова, неприятие, но избежать его в творчестве, в повседневной литературной практике было невозможно: архаизм в чистом, рафинированном виде не мог дать необходимого писателю разнообразия художественных средств. Нет ничего удивительного в том, что юный Аксаков писал своей невесте восторженные и чувствительные письма: любовное письмо невозможно написать ни прозой, в стиле лингвистических трактатов Шишкова, ни стихами «Россияды», – законы жанра сильнее любых идеологических концепций. По этой же самой причине зрелый Аксаков, автор воспоминаний, не мог не столкнуться с трудноразрешимой проблемой: сентименталистская прививка этому мемуарному жанру была исключительно сильна.
В своем двойственном отношении к сентиментализму Аксаков был отнюдь не одинок – подсознательное стремление к нему в сочетании с идейным неприятием, по мнению В. В. Виноградова, было важнейшей чертой гоголевского творчества: «Гоголь не случайно начал печатный свой путь со стиховой формы – и притом отживающего архаического типа <…>. Стих как нельзя более отвечал его представлениям о «лирическом и серьезном роде», его тяготению к звуковым эффектам и реторике. Державин навсегда, по свидетельству Анненкова, остался литературным кумиром Гоголя. И вместе с тем сентиментальная поэтика органически вросла в художественный мир Гоголя и, как один из его уголков, всегда готова была раскрыться…».90 Поразительно, но приведенную характеристику можно дословно отнести и к Аксакову: стихи в юности, преклонение перед Державиным, любовь к театральной декламации, осознанное стремление к архаистической поэтике и подспудный сентиментализм роднили Аксакова с Гоголем как ни кого другого. Такие факты биографии как многолетняя дружба, взаимное уважение – лишь внешние причины того, что Аксаков, по его собственному признанию, становится сторонником «гоголевской школы»; истинным же побуждением к этому были общие глубинные истоки их писательского опыта.
Стремление писать о темах, к которым лежит душа, избегая «говорливости сердца», ставило перед Аксаковым трудную задачу по выработке своего стиля, заставляло экспериментировать. Многолетняя история написания «Семейной хроники» и присущая ее первому отрывку эклектичность стилистики свидетельствуют о долгих и противоречивых поисках стиля, своего рода борьбы с памятью жанра семейного романа, зародившегося и развивавшегося под сильнейшим влиянием идиллии. Эпистолярный жанр в середине XIX века оказался чрезвычайно удобной площадкой для опытов в поэтике и стилистике. Десятилетием ранее Аксакова Гоголь, в своих «Выбранных местах из переписки с друзьями», также пытался на основе личной переписки сочетать принципиально разнородные художественные явления: «…найти в сущности, вероятно, утопический синтез лирического начала как исповеди, «глубокой истины» души — и начала эпического как всеобъемлющего созерцания».91 Эта же проблема – сочетаемости лирического и эпического начал – стояла и перед Аксаковым. Так, он придумывает свой «квазижанр» охотничьих книг, в которых функциональность и информативность практического руководства по охоте и рыбалке ему удается сочетать с интимной интонацией личных воспоминаний. Ниже мы будем говорить об этом подробнее, а сейчас обратимся к «Истории моего знакомства с Гоголем», тема и жанровые особенности которой во многом тоже определяются этой внутренней интенцией преодоления сентиментализма.
«История моего знакомства с Гоголем» занимает особое место не только как важный историко-литературный источник, но и как уникальное явление в нашей мемуарно-автобиографической прозе. Многослойная поэтика этой книги поставила Аксакова перед сложнейшей проблемой – соединить воедино целый ряд разнородных элементов: личные воспоминания, переписку с Гоголем (свою и своих детей), дневниковые записи дочери Веры, выдержки из писем ее подруги Марии Карташевской и устные рассказы широкого круга близких и знакомых. Эти обширные по замыслу мемуары, к сожалению, не были закончены: Аксаков подготовил к печати первую часть, а от второй его отвлекла работа над «Детскими годами Багрова-внука». В композиции произведения условно можно выделить две части. В первой доминируют личные воспоминания Аксакова, стилистически близкие его очеркам о знакомстве с Державиным, Шишковым и Шушериным, о которых подробнее мы будем писать ниже. В повествование встраиваются отдельные письма, но роль их пока вспомогательная, они дополняют и уточняют основной рассказ. Во второй же половине сюжетообразующую функцию, наоборот, принимает на себя переписка, а личные воспоминания Аксакова приобретают форму комментария к ней. Мемуары и частная переписка – разные жанры, каждый из них имеет свою собственную историю, поэтику, стилистику, но поразительно, что, несмотря на формальные различия, внутри «Истории моего знакомства с Гоголем» они сосуществуют настолько органично, что читатель не замечает разрыва между ними. Ощущение контраста возникает позже – с переходом ко второй части книги, не законченной автором и скомпонованной ее первым публикатором Н. М. Павловым на основе материалов из архива С. Т. Аксакова. Это косвенно подтверждает, что стилистическое единство первой части – явление отнюдь не случайное.
Выше мы отмечали важную роль, которую сыграл сентиментальный эпистолярный роман в формировании мемуаристики XVIII – XIX столетий. Память жанра, опыт, накопленный предшественниками, – чрезвычайно важный фактор, облегчающий работу в данном случае мемуариста, но ссылки на него недостаточно, когда речь идет о конкретном произведении: художественные достоинства текста – заслуга автора, его таланта и мастерства. Внутреннее единство воспоминаний о Гоголе держится, в первую очередь, на особой стилистике, выработанной Аксаковым в поздний период своего творчества. Истоки ее, по мнению А. В. Чичерина, коренятся в живом, бытовом языке, которым вело свою переписку провинциальное дворянство в 30—40-е годы XIX века.92 Эта же школа бытовой переписки, сентименталистская в своей глубинной основе, помогла выработать Аксакову умение сочетать разные тексты вопреки различиям присущих им индивидуальных языков. Вот почему письма Гоголя, К. Аксакова, Щепкина, Погодина и других, несмотря на то, что принадлежат перу разных людей, органично вливаются в повествование Аксакова, не нарушая его внутренней целостности изложения.
Достигнуть стилистического единства в столь многослойном тексте, как «История моего знакомства с Гоголем», было невозможно без большой предварительной обработки материала, которая не сводится к формальной композиционной организации эпизодов. Для более подробного исследования творческой истории произведения необходимо обращение к аксаковским архивам. В нашей же работе мы ограничимся лишь указанием на ее косвенный след, обнаруживающийся непосредственно в самих воспоминаниях. Комментируя отрывки из писем Марии Карташевский, Аксаков замечает: «Вот вам точные выписки: выкинуты только нежные названия93. Хотел было выбрать из других писем, но устал писать» (Аксаков, III, 234). О типичной сентиментальной стилистике этих эмоционально окрашенных, личных мест мы можем судить по приведенным самим же Аксаковым отрывкам. Так рассказывая о своем впечатлении от «Мертвых душ» Карташевская пишет: «Не знаю, передало ли мое предыдущее письмо то глубокое впечатление, которое произвело на меня это сочинение; я чувствую, что полный отчет отдать в нем было бы трудно. Только поверь мне, что я ценю его так высоко, как должно, и что ни одна мелочная подробность из разговоров всех этих ничтожных людей, а еще менее ни одно из тех восторженных, как ты говоришь, мест, где говорит Гоголь сам от себя, не прошло незамеченным, не почувствованным мною. Ах, как приятно и в разлуке знать, что чувства наши были одинаковы!» (Аксаков, III, 234). Последнее восклицание в приведенной цитате говорит само за себя. Таким образом, одним из важнейших направлений редакторской работы, проведенной Аксаковым при подготовке своих воспоминаний, было выравнивание языка писем, ретуширование их сентименталистской стилистики.
Процесс канонизации периферийного жанра, как это показал Ю. Тынянов, проходит в несколько этапов: намеренную литературность и изысканность сменяют борьба с манерностью и стремление к ясности и простоте стиля. Сближение с литературой сменяется размежеванием. Многолетняя переписка, легшая в основу «Истории моего знакомства с Гоголем», фиксирует вершину этой эволюционной кривой, когда «письмо, оставаясь частным, не литературным, было в то же время, и, именно поэтому, литературным фактом огромного значения. Этот литературный факт выделил канонизованный жанр «литературной переписки», но и в своей чистой форме он оставался литературным фактом. И не трудно проследить такие эпохи, когда письмо, сыграв свою литературную роль, падает опять в быт, литературы более не задевает, становится фактом быта, документом, распиской».94 В середине XIX века возврат эпистолярного жанра к своим сугубо прагматичным бытовым истокам был еще делом будущего, зато набирала силу другая тенденция – приход повседневного быта в мемуаристику.
Приступая к написанию «Истории моего знакомства с Гоголем», Аксаков поставил перед собой необычную для мемуарной прозы того времени задачу – очеловечить образ писателя и развенчать предрассудки, с ним связанные. В предисловии к книге он так формулировал эту свою мысль: «Я думаю, что мой искренний, никаким посторонним чувством не подкрашенный рассказ может бросить истинный свет не на великого писателя (для которого, говорят, это не важно), а на человека» (Аксаков III, 150). Мы временно вынесем за скобки проблему того, насколько верно мы сейчас оцениваем революционность самой этой идеи: для решения поставленной задачи Аксакову требовалось сочетать, слить воедино две противоположные тенденции, на протяжении столетий существовавшие в литературе параллельно. Со времен античности мемуарно-биографическая проза, генетически связанная с риторическими жанрами надгробной речи и апологии, ставила перед собой задачу прославить и увековечить память героя, опираясь на значимость его общественной роли. С другой стороны, жанр «исповеди»95, возникший тоже в сфере влияния риторической традиции утверждал уникальность и ценность внутренней, душевной жизни человека.
Стремление очеловечить образ великого писателя, развенчать «ошибочные мнения о Гоголе как о человеке» (Аксаков III, 150) предопределило направление нескольких сюжетных линий произведения. Первая связана с восприятием Гоголя как юмориста. Как бы следуя в русле устоявшихся представлений о писателе, как о весельчаке, вначале Аксаков рассказывает ряд анекдотических историй, характеризующих его с этой стороны, но постепенно начинает развенчивать этот миф, показывая читателю, как тяготила Гоголя эта вынужденная роль балагура. Вторая сюжетная линия «очеловечивания» Гоголя связана с рассказом о сложностях в их личных взаимоотношениях, о некоторых негативных сторонах его характера, особенно неискренности; С. И. Машинский видел в ней «лейтмотив аксаковских воспоминаний».96 Мы немного остановимся на третьей сюжетной линии, связанной с религиозностью Гоголя, так как она имеет отношение к общей теме, которую мы рассматриваем: роли эпистолярной составляющей в воспоминаниях Аксакова и амбивалентных отношениях его с сентиментализмом.
Язык и стиль учительной, духовной прозы Гоголя формировался и оттачивался в обширной переписке, которую вел писатель в 40-е годы97. В своей концептуальной статье «Несколько слов о биографии Гоголя» Аксаков формулирует такое свое видение этой проблемы: «Гоголь вел обширную переписку. Приблизительно можно сказать, судя по числу его писем к некоторым известным лицам, что число всех писем может простираться до нескольких сотен. Какое богатство! Гоголь выражается совершенно в своих письмах; в этом отношении они гораздо важнее его печатных сочинений. Какое наслаждение для мыслящих читателей проследить, рассмотреть в подробности духовную жизнь великого писателя и высоконравственного человека! Сколько борьбы в примирении художника с христианином, сколько подвигов послушания и сколько ошибок, увлечений зыбкого человеческого ума, никогда, однако же, не помрачивших чистоты душевной, открыла бы такая биография! Сколько умилительного и поучительного нашли бы в ней даже такие читатели, которые чужды литературного направления! Да исполнится когда-нибудь это желание, без сомнения разделяемое многими, и да будет оправдан и оценен Гоголь по достоинству как художник и как человек» (Аксаков III, 606).
Христианство Гоголя остается одной из самых трудных проблем для исследователей его жизни и творчества.98 Внезапность его «обращения к вере», странные формы, которые оно приняло, обескураживали современников привыкших, видеть в Гоголе индифферентного к религии писателя-юмориста. Выход в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» обострил ситуацию, поставив друзей писателя, в том числе Аксаковых, перед необходимостью внятно выразить свое отношение как к книге, так и к ее автору. Неприятие «Переписки» объединило противоположные лагеря русского образованного общества: светски ориентированная его часть не могла принять идеализацию церковности. Консервативное духовенство та же самая идеализация отпугивала эклектизмом, душевной горячностью, противоречившими глубинным основам православного богословия и аскетики. Тематика и ограниченный объем нашего исследования не позволяет здесь подробно остановиться на проблеме христианства Гоголя и истории восприятия его «Выбранных мест из переписки с друзьями». Отметим лишь, что отношение С. Т. Аксакова к переменам в мировоззрении и творчестве Гоголя было также негативным, хотя высказал его он отнюдь не сразу: лишь 9 декабря 1846 года Аксаков шлет Гоголю решительное письмо, иногда почти дословно перекликающееся с зальцбруннским письмом Белинского; в нем он, кроме прочего, пишет: «Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и оттого боялся; но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть» (Аксаков, III, 335). Вчитавшись в текст этого письма, мы обнаружим, что отношение Аксакова к религиозности Гоголя было очень сложным, но, если оставить в стороне элемент личных взаимоотношений, раздражение, подозрения в неискренности, в сухом остатке окажется, что камнем преткновения в них были не столько идеологические разногласия, сколько эстетические, глубина которых возрастала по мере усиления религиозного начала в гоголевском творчестве. Поначалу противоречивые чувства у Аксакова вызывало не столько содержание взглядов Гоголя, сколько та форма, в которую он их облекал: «Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения. Я мог бы доказать слова мои многими выписками из ваших писем, но считаю это излишним и слишком тягостным для себя трудом» (Там же). Со временем разногласия стали смещаться от формы к содержанию, и уже после выхода в свет статьи «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», в целом, положительно воспринятой всеми Аксаковыми, у Сергея Тимофеевича возникли недоумения по поводу новых взглядов Гоголя на место и роль литературы: «Статья ваша, напечатанная в «Московских ведомостях» о переводе «Одиссеи», заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда» (Аксаков, III, 336).
То, что эстетические проблемы оказались камнем преткновения во взаимоотношениях Гоголя и Аксакова, было отнюдь не случайно, ведь, по мнению Е. И. Анненковой: «Гоголевское творчество 40-х годов имеет свою особенность. Оно представляет собой попытку создания новой эстетической системы, основу которой (или, если можно так сказать, одну из основ) должно было составить переосмысление прежнего творчества».99 Именно это изменение в отношении Гоголя к своему собственному творчеству и вызвало у Аксакова самое сильное возмущение: «Наконец, обращаюсь к последнему вашему действию — к новой Развязке «Ревизора». Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; <…> Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии. Но мало этого. Скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваши объяснения «Ревизора» искренни? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене; что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла, ибо принятие Хлестакова за ревизора есть случайность?» (Аксаков, III, 337—338). В новом взгляде на творчество, в стремлении пересмотреть его роль в частной и общественной жизни, в попытке поставить литературу на службу исправления нравов, Аксаков видел отрыв от реальной жизни, и даже своего рода измену Гоголя своему призванию и таланту. Исследуя язык гоголевской прозы, В. В. Виноградов, вслед за Вас. Гиппиусом, дает им такую характеристику: «Останется крепкой мысль, что «Переписка с друзьями» – идиллия с характером утопии, что это – чисто литературное произведение, органически связанное с сентиментально-утопическими трактатами».100 Таким образом, принимая во внимание эту особенность книги, сыгравшей важнейшую роль в истории взаимоотношений двух писателей, мы вновь возвращаемся ко все той же ключевой проблеме аксаковского творчества – преодолению сентиментализма, внутренней тяги к нему и отталкиванию от него: теперь уже не только как форме стилистики, но и как идейному течению.
Сравнивая цитированное сейчас письмо Аксакова со статьей «Несколько слов о биографии Гоголя», мы обнаруживаем значительный сдвиг в его оценках перелома в мировоззрении, пережитого Гоголем: от первоначального неприятия оно постепенно сместилось к вдумчивому анализу и сочувствию. Конечно, можно увидеть в этом лишь чисто человеческие проявления характера Аксакова, его «мягкосердечия». Упреки в пристрастном отношении к друзьям были общим местом критики его со стороны современников. В духе традиции, восходящей к Добролюбову, характеризует эту «эволюцию оценок» С. И. Машинский: «Она свидетельствовала, прежде всего, о зыбкости его собственных позиций. Высказывая нередко вполне справедливые суждения о Гоголе, он вместе с тем был сам недостаточно стоек в них и последователен».101 Личность автора, несомненно, откладывает отпечаток на его отношение к герою, тем более в мемуарной прозе, но не стоит сбрасывать со счетов и возможные чисто литературные причины, среди которых хотелось бы особо выделить тенденцию к возрождению и переосмыслению элементов поэтики и стилистики сентиментализма, заявившую о себе в конце 40-х годов XIX века. Тема христианства Гоголя – и, как кульминация ее, – появление на свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», как мы можем понять из вышеупомянутой статьи Аксакова «Несколько слов о биографии Гоголя», по первоначальному его замыслу должны были предопределить развитие основной сюжетной линии «Истории моего знакомства с Гоголем».
Аксаков, конечно, не был одинок в своих творческих исканиях: другие мемуаристы тоже занимались поисками в этом направлении. В те же годы П. В. Анненков в своих воспоминаниях о Гоголе решает сходную задачу – увязать в единстве характера героя бесконечное разнообразие его бытовых проявлений, часто противоречивых: «Можно весьма легко избегнуть всех этих резких недоразумений, изобразив характер во всей его истине, или по крайней мере в той целости, как он нам представляется после долгого обсуждения. Живой характер, глубоко обдуманный и искренне переданный, уже в себе самом пояснение и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнообразны, противоречивы или двусмысленны ни казались они, взятые врозь и отдельно друг от друга».102 И Аксаков, и Анненков были заворожены личностью Гоголя и тайной его жизненной драмы. Это их сближает, но существует и некоторая разница в авторских позициях мемуаристов. Анненков в своих мемуарах исходит из прагматики биографического повествования, ставя перед собой задачей осветить период жизни своего персонажа, воссоздать целостный его образ личности103. Он с позиции очевидца пытается рассказать о ключевом в жизни Гоголя кризисе: «Рассказать все, что знаешь об этом страшном периоде его жизни, и рассказать добросовестно, с глубоким уважением к великой драме, которая завершила его, есть, по нашему мнению, обязанность каждого, кто знал Н. В. Гоголя и кому дороги самая неприкосновенность, значение и достоинство его памяти»104. Аксаков, в свою очередь, излагает историю того, как пережитый в годы пребывания заграницей Гоголем духовный и творческий надлом сказался на взаимоотношениях писателя с оставшимися в России друзьями. Он пишет не биографию, а «историю своего знакомства», соответственно и акценты его произведения смещаются с образа персонажа на суть возникавших между ними конфликтов. И не случайно, что Анненков, видевший Гоголя в тот период, имевший возможность в своих воспоминаниях опереться на свои непосредственные впечатления от тех встреч, когда речь заходит о психологической подоснове гоголевского кризиса опирается на аксаковское понимание его сути: «С. Т. Аксаков в превосходной записке своей о Гоголе, сообщенной г. Кулишем и, к сожалению, разделенной им на отрывки, в которых отчасти теряется общий характер повествования (см. «Записки о жизни Гоголя», СПб. 1856), относит к концу 1840 года замечательную перемену тона в письмах Гоголя, получивших оттенок торжественности и мистического одушевления. С. Т. Аксаков объясняет это обстоятельство, во-первых, болезнию Гоголя в Вене осенью того же года, открывшей ему, по собственному его признанию, многое, что изменило все существование его, а во-вторых, причину перемены полагает в великом значении, какое возымели «Мертвые души» для их автора, увидавшего, как под рукой его «незначащий сюжет вырастает в колоссальное создание, наполненное болезненными явлениями нашей общественной жизни». Последняя догадка особенно справедлива»105.
К сожалению, как мы уже писали, аксаковские воспоминания остались незавершенными, но их роль в развитии поэтики и стилистики как самого Аксакова, так и всей русской мемуаристики еще требует дальнейшего исследования. Ниже мы подробнее рассмотрим, как творческие поиски, начатые Аксаковым при работе над «Историей моего знакомства с Гоголем», были продолжены в его других мемуарно-автобиографических произведениях; в частности, как он в них адаптировал к мемуарному жанру элементы поэтики, выработанные беллетристикой «натуральной школы».
6. Проблема героя в «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксакова.
Аксаков начинал свою литературную деятельность как театральный и литературный критик. И хотя он не слишком много внимания уделял рассмотрению теоретических вопросов, в его критическом наследии есть замечательная статья, посвященная проблематике романа: «Иван Выжигин». Изложенные в ней идеи во многом предопределили направление развития позднего творчества Аксакова. Он считал, что главнейшей особенностью романа, отличающей его от эпопеи и драмы, является особая роль, которую играет в структуре произведения образ главного героя. Ее он формулирует так: «В поэтической панораме романа многочисленные и разнообразные явления вещественной человеческой жизни должны сосредотачиваться в единстве жизни героя <…> Этот герой должен быть душою романа. К нему должны возводиться все частные явления и события, составляющие историческую целость романа» (Аксаков III, 477). Герой романа для Аксакова – это не просто главный из персонажей: герой романа несет на себе особую функцию – он обеспечивает внутреннее художественное единство произведения. Эта функция обеспечения целостности должна пронизывать все уровни текста, поскольку и идейное, и сюжетное единства текста также находят свое выражение в его образе. Отсюда – и художественные качества романа, по мнению Аксакова, напрямую зависят от того, удалось ли автору создать образ главного героя, отвечающий этим требованиям.
Процитированная нами статья была опубликована еще в 1828 году, то есть более чем за два десятилетия до написания Аксаковым своих главных книг, но именно сформулированный в ней принцип целостности образа главного героя стал играть ключевую роль в системе поэтики его мемуарной прозы. Появлению в мемуарно-биографической прозе новых способов построения образа главного героя предшествовала долгая эволюция в рамках беллетристики. Вот почему появление их в мемуаристике стало, по сути дела, революционным, и суть этой революции можно сформулировать так: мемуаристика стала сюжетным жанром. Разница существенна: если труд мемуаристов предыдущих поколений, за редкими исключениями, сводился к изложению фабулы жизни героя, к описанию событий, свидетелем которых он был, то для Аксакова голая фактография сама по себе уже не имеет ценности – она служит лишь материалом, из которого строится сюжет художественного произведения. Творческий метод Аксакова заключался в том, чтобы увидеть в канве реальной человеческой жизни некую внутреннюю логику, идею или конфликт и положить их в основание сюжета мемуарно-биографической книги. Например, сердцевиной «Истории моего знакомства с Гоголем» стал процесс развития внутреннего мира писателя со всеми его противоречиями и метаниями; в основе «Воспоминаний об Александре Семеновиче Шишкове» – проблема взаимного непонимания честного, принципиального человека обществом, а в «Детских годах Багрова-внука» и «Воспоминаниях» – взросление, формирование человеческой личности.
Мы уже отмечали важные изменения, которые произошли в подходе к написанию воспоминаний о значительных личностях. Во введении к «Истории моего знакомства с Гоголем» Аксаков предлагал абстрагироваться от оценочных категорий, отвлечься от вопроса, насколько значима личность героя мемуарно-биографического произведения, и сосредоточиться на менее приметной, повседневной составляющей его биографии. Поставленную перед собой задачу он выполнил, но творчество Аксакова интересно тем, что этот подход – увидеть в великом деятеле обычного человека – шел в его произведениях навстречу формально противоположному: обнаружить нечто важное, достойное быть увековеченным в мемуарах, в «личностях невеликих», в «писателях второстепенных».
Гоголь, «натуральная школа» узаконили проблематику отношений «человека и среды», печали и радости повседневного быта в беллетристике, но в мемуарной прозе, с ее научно-исторической прагматикой, они воспринимались как некий диссонанс. Слишком незначительными казались истории о малозначительных персонажах, для того чтобы соответствовать жанру мемуаров. Конфликт был неминуем, как отмечает Д. Я. Калугин, исследовавший процессы, происходившие в то время в биографическом жанре: «Нарушение пропорций между типом биографического повествования и значимостью того, о ком повествуется, приводит к дисбалансу и ответной реакции, сопоставимой с той, которая имеет место, когда нарушаются приличия или какие-то столь же значимые условности. Симптомами этого дисбаланса станут полемики, которые сопровождают появление некоторых биографических текстов» 106 Не удивительно поэтому, что издание Аксаковым в 1859 году «Литературных и театральных воспоминаний» тоже было холодно встречено и читателями, и критикой. Наверное, ярче всего возникшее после выхода книги недоумение и даже разочарование выразил Добролюбов в рецензии на «Разные сочинения С. Аксакова». В своей ироничной манере он так отзывался о ее содержании: «Мы не знаем, что извлечет будущий историк нашей литературы из того, что С. Т. Аксаков с товарищами ел сейчас избитое масло, редис, только что вынутый из парника, сметану, творог и пр. и что Писарев поймал двух щук – одну фунтов в шесть, и т. д.... Но нас интересует вопрос: теперь ли только г. Аксаков вспомнил все это или тогда же все записал – предупреждая, таким образом, известного гоголевского героя, писавшего: «Сия дыня съедена такого-то числа», и если кто присутствовал, то: «Участвовал такой-то»...».107
Надо сказать, что Добролюбов, подозревая наличие подобных записей, не совсем далек был от истины: Аксаков практически никогда не использовал впрямую материалы из семейного архива.108 Чуть ли не единственным исключением из этого правила были у него записи книг ведения домашнего хозяйства, времени пребывания его в оренбургских поместьях: в них учитывалось, сколько и когда было им подстрелено той или иной дичи, выловлено рыбы. Он использовал их в работе над своими охотничьими книгами. Возможно, подобные записи он использовал и в этом случае. Поразительно другое: в этом отрывке из рецензии, цитируя Гоголя, Добролюбов сравнивает не двух писателей, а автора с персонажем. Эта методологическая ошибка – отождествление «Я» автора, и «Я» персонажа преследует Аксакова до сих пор; она же, как мы писали ранее, служит одним из главных препятствий в исследовании поэтики его прозы.
Есть у романа существенная черта, выделяющая его среди других жанров: специфический подход к изображению повседневности, в котором обыденная жизнь простых людей изображается средствами эпической поэтики. Именно здесь кроется еще одна важная точка соприкосновения романа с мемуарной прозой Аксакова. Известное, восходящее к Белинскому, определение романа как «эпоса частной жизни» может, безусловно, быть отнесено и к его произведениям. Это особое, романное мирочувствие, было в высшей степени присуще Аксакову-художнику.
Однако основной упрек со стороны читателей и критики в адрес «Литературных и театральных воспоминаний» Аксакова сводился не к заурядности темы, а к незначительности выведенных в ней в качестве героев лиц; в пристрастности в отношении к творчеству его друзей. В уже цитированной нами рецензии Добролюбов писал об этом так: «…совершенное равнодушие, даже некоторое пренебрежение и насмешливость явились теперь в публике вместо прежнего восторга к трудам г. Аксакова. В «Русской беседе» прошлого года постоянно печатались его «Литературные и театральные воспоминания» и постоянно пропускались мимо даже читателями «Беседы». <…> В «Воспоминаниях», изданных вместе с «Хроникой», видно уже было, что С. Т. Аксаков слишком несвободно относится к тем личностям и явлениям жизни, которые занимали его молодость. И там уже не совсем приятно поражал по местам пафос автора, обращенный на удочки, на благородные спектакли и на знаменитости, подобные Шушерину, Кокошкииу и т. п.».109
Подобная оценка сохранилась отчасти до сего дня, и она была бы верна, если не учитывать новый подход к мемуарному творчеству, выработанный к тому времени Аксаковым. Вспомним: Аксаков был профессиональным литературным и театральным критиком и имел достаточно художественного вкуса, чтобы понимать реальный уровень произведений своих друзей. Высокая оценка творчества «второстепенных писателей»: Ф. Ф. Кокошкина, А. И. Писарева, кн. А. А. Шаховского и др. – была его сознательной авторской позицией, провокационным художественным приемом обнажающим «вторые сюжеты»110 произведения – трагедию «нереализованного таланта» и идею о том, что человек простой не менее достоин памяти о нем, чем великий. Выбор лиц на роль героев воспоминаний Аксаковым был продиктован не столько формальным фактом знакомства с ними, сколько подчинен внутренней логике будущей системы образов и персонажей художественного произведения. В этом отношении Аксаков в своем мемуарном жанре следовал по пути, ранее проложенному в русской литературе школой «сентиментального натурализма», с ее «филантропическим» сострадательным интересом к жизни и судьбе простого человека.
Парадоксально, но социологическая критика, в том числе Добролюбов, являясь, по традиционным представлениям, передовым для своей эпохи явлением, возрождала архаичный подход, свойственный уходящей в прошлое морально-риторической системе. Морально-мотивированное отношение к герою было частным проявлением иерархичного отношения к знанию вообще: есть предметы, достойные изучения, а есть такие, на которое не стоит тратить драгоценное время. Воспоминания о незначительных, с точки зрения истории, личностях относились именно ко второй категории. Чему мог научить рассказ о писателях-неудачниках, забытых не то что потомками, а уже при жизни? А именно таким литераторам: Писареву, Кокошкину и др. – были посвящены «Литературные и театральные воспоминания» Аксакова. Мемуарист был не свободен в выборе своего персонажа: лишь те воспоминания, по мнению как древних агиографов, так и передовых критиков середины XIX века, могли быть интересны читателю, герой которых уже обладал репутацией человека, достойного того, чтобы его помнили.
Менторский тон сначала реальной, а затем – и социологической критики – явление отнюдь не случайное; причины его коренятся не только в материалистическом, просветительском духе эпохи – истоки его гораздо глубже. В. В. Виноградов об этом писал: «Теория прозы «натуралистической эпохи» непонятна без учета ее риторических основ, ее «учительных» тенденций, ее «беллетристики»».111 Тем более, что само слово «беллетристика» изначально было введено Белинским с целью обозначить старые риторические жанры, пусть и обогащенные новым содержанием, но еще не достигшие глубины постижения действительности, свойственной литературе реалистичной: «…впрочем слово «беллетристика» уже со второй половины 40-х годов, когда проблема художественности в литературе поглощается проблемой «утилитарности» либерального или социалистического учительства делается синонимом художественной прозы вообще».112 «Учительная» тенденция в критике сохраняла свою силу, по крайней мере, еще два десятилетия. Мемуаристика же в это время, двигаясь в направлении усиления художественного начала, проделывала путь диаметрально противоположный выше описанному. Она, генетически связанная с риторической традицией, не поглощалась «утилитарностью» и «учительностью», а преодолевала их в себе. Вот откуда, возможно, проистекало принципиальное неприятие и критиками, и читателями «Литературных и театральных воспоминаний» Аксакова.
Еще в период зарождения жанра надгробная речь и апология – два типа ораторской речи – оказали на мемуарную прозу такое сильное влияние, что оно сохранилось на протяжении всей его истории. Стремление прославить героя или защитить его память, в этом внутренняя интенция, смысл, прагматика большинства написанных мемуарно-биографических текстов, начиная с «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта, первая книга которых уже была выстроена по принципу апологии. И какие бы формы в дальнейшем ни принимала мемуарно-биографическая проза, апологетичность остается ее сердцем, жанрообразующим признаком. Замечательным выражением которого, по сути дела «кредо», можно считать слова, которыми Аксаков заканчивает свою «Семейную хронику»: «Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили: но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!» (Аксаков I, 279—280).
Это хрестоматийная цитата – она настолько точно и цельно выражает сущность аксаковского творчества, что нет, наверное, ни одного очерка жизни и творчества писателя, который бы ни начинался или заканчивался ей. Однако, есть в ней один нюанс, который выделяет книги Аксакова на фоне произведений других авторов, позволяющий говорить о нем как о новаторе, реформаторе жанра. Главной идеей, одушевлявшей все книги Аксакова, была не просто апология персонажей, а отстаивание права на память любого человека – вне зависимости от его значения для истории. Это было принципиально новое явление в мемуаристике, в нее пришел «герой без биографии».
Исследуя типологию автора и написанного им текста, Ю. М. Лотман отмечал, что, «каждый тип культуры вырабатывает свои модели «людей без биографии» и «людей с биографией»».113 Традиционный взгляд на героя практически любого подвида мемуарно-биографической прозы основывался на морально-мотивированном отношении к личности. Только человек, выделявшийся среди окружающих, нарушавший общепринятую норму поведения, мог обрести свою собственную, неповторимую биографию, стать героем литературного произведения. В свою очередь, человек, живущий обыденной жизнью, не мог явиться каким бы то ни было положительным или отрицательным назидательным примером для читателя, преподать урок. Это можно видеть и на примере религиозной агиографии, в которой количество житий «мучеников», «исповедников» и «преподобных» – то есть личностей, осуществивших в своей жизни тот или иной подвиг, – несоразмерно больше, чем жизнеописаний «праведников», скромно и тихо живших в миру. То же мы видим и на примере светских воспоминаний и биографий, героями которых до XIX века, в подавляющем большинстве, были военные или политические деятели. Поэтому вполне понятные нам слова Аксакова, обращенные к персонажам «Семейной хроники» и остальных его книг: «Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще» – были наполнены парадоксальным, внутренне противоречивым смыслом для читателя: зачем прославлять «не великих героев», от чего защищать тех, кто и так прожил жизнь свою «в тишине»?
Упреждая эти возможные недоумения читателя, Аксаков в предисловии к «Литературным и театральным воспоминаниям» так объясняет выбор героев своих воспоминаний: «В этом внимании, в этих знаках уважения к памяти второстепенных писателей выражается чувство благодарности, чувство справедливости к людям, более или менее даровитым, но не отмеченным таким ярким талантом, который, оставя блестящий след за собою, долго не приходит в забвение между потомками. Писатели второстепенные приготовляют поприще для писателей первоклассных, для великих писателей, которые не могли бы явиться, если б предшествующие им литературные деятели не приготовили им материала для выражения творческих созданий, – среды, в которой возможно уже проявленье великого таланта» (Аксаков III, 7). И здесь Аксаков снова проявляет свойственную ему чуткость к еще только нарождающимся тенденциям литературного процесса. Современные исследователи обнаруживают подобное усиление читательского интереса к жизни себе подобных, простых людей и в смежных с мемуаристикой жанрах: «Героем биографических текстов становится обыкновенный, ничем не примечательный человек, разделяющий всевозможные культурные и политические стереотипы».114
История жизни Александра Ивановича Писарева отнюдь не сразу выходит в центр повествования «Литературных и театральных воспоминаний» Аксакова. Более того: поначалу читатель не предполагает, что этот персонаж к концу произведения окажется одним из главных, а история его жизни и смерти станет сюжетообразущей для всей книги. Тем не менее, уже в первом его упоминании можно обнаружить заявку основных мотивов, структурирующих его образ: «Все, кто его знал, смотрели на Писарева как на будущего славного писателя; его проза и стихи превозносились не только товарищами и начальством пансиона, но и всеми; театр, литература были его призваньем, страстью, жизнью. <…> Писарев имел раздражительный, но сосредоточенный характер; внешнее выражение у него было тихо, спокойно и холодно даже и тогда, когда он задыхался от внутреннего волнения. Он не краснел ни от гнева, ни от радости, а бледнел. Это гораздо тяжеле и вредно действовало на его всегда слабое здоровье» (Аксаков III, 49). Заявленные здесь черты характера героя – талант и преданность литературе, острый ум, страстность, а позднее и слабое здоровье – регулярно акцентируются Аксаковым, становясь своего рода лейтмотивами его образа.
Авторское отношение Аксакова к своим героям во многом развивалось параллельно поискам Тургенева – не случайно «Литературные и театральные воспоминания» писались одновременно с «Рудиным» и «Дворянским гнездом». Общей для творческого метода обоих писателей является специфичная героецентричность, «построение жизненного поприща, сцены жизни, на которой испытываются силы, сталкиваются стороны, совершается обдуманный социальный суд, сопровождаемый непрерывной интерпретацией автора. В исходе пройденного поприща вырабатывается, через осознание всех элементов его, точное убеждение в вопросе социальной ценности героя и представленной им человеческой породы»115. Эта формулировка Л. В. Пумпянского, характеризующая романы Тургенева, вполне приложима и к мемуарам Аксакова. Однако концептуальность, свойственная произведениям последнего, дает обнаружить себя далеко не сразу. Отчасти ее скрадывает то внимание, которое Аксаков уделяет описанию бытовых сторон жизни. Рассказ о многочисленных друзьях и знакомых Аксакова, описание интимной, дружеской атмосферы, царившей в их замкнутом кружке, совместные застолья, знаменитые театральные постановки, зрителем которых они были, кажется, составляют главную тему его воспоминаний. Даже имея возможность обострить сюжет, внести в него элемент конфликта, Аксаков уклоняется от этого под благовидными предлогами. Так, о полемике с «Московским телеграфом» и его редактором Н. А. Полевым он упоминает лишь вскользь: «Я не намерен распространяться об этой полемике, которая впоследствии вышла из всяких пределов приличия и сделалась вовсе не литературною. Я сам был, к сожаленью, одним из наиболее раздраженных, следственно и не всегда справедливых, деятелей и неохотно вспоминаю об этом времени; притом же еще нельзя говорить обо всем откровенно: еще живут многие, принимавшие горячее участие в этой борьбе или слишком близкие к бойцам, погибшим рановременно» (Аксаков III, 75—76).
Признание собственной субъективности, сознательное умалчивание об исторически значимых эпизодах ради достижения тех или иных целей, как мы уже писали выше, было характерной особенностью мемуарного творчества Аксакова. Однако, как и в случае с «Историей моего знакомства с Гоголем» и «Семейной хроникой», морально-этические причины аксаковской самоцензуры тесно переплетаются с творческими. Противоречивая, конфликтная, полная разнообразных перипетий история полемики с Н. А. Полевым могла сместить центр тяжести повествования, отвлечь читательское внимание от главных тем книги – истории дружбы молодых людей, их общей любви к литературе и театру, радостям и печалям их жизни. Своеобразную эмоциональную «апологию» этой жизни вкладывает Аксаков в уста Писарева: «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, – с артистами, проникнутыми любовью к искусству и любящими меня, как человека с талантом! Стану я томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми! Нет, слуга покорный! Нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровеннее бонтонных оценщиц, с презрением говорящих о нравах театральной сволочи» (Аксаков III, 89). Аксаков, вкладывая в уста своего близкого друга эту прочувствованную и слегка театрализованную речь, выносит тот самый «социальный суд» над образом жизни – своим и своих друзей; еще одно слово в защиту их от возможного пристрастного суда читателей.
Надо сказать, что сам Аксаков отнюдь не идеализировал ни то время, ни друзей, ни свои интересы и увлечения. Это мы можем понять, сравнив его воспоминания с емкой и беспристрастной характеристикой в «Письме к редактору «Молвы» <1>», написанной лишь годом позже: «Мое время, если хотите, если уж пошло на правду, было несколько, как бы это сказать, не то что поглупее теперешнего... нет, с этим нельзя согласиться; оно было простее, простодушнее, наивнее... Все не то; оно было пустее, вот это правда. Впрочем, мы не виноваты в том, что таково было время. Да, вопросы литературные и жизненные, особенно последние, были гораздо помельче, далеко не так важны, я не спорю, но жить было веселее; мы жили спустя рукава, не оглядываясь на свое прошедшее, не вникая в безнравственность отношений настоящего и не помышляя о будущем» (Аксаков III, 622). Мы можем понять, принимая во внимание эти его слова, что идеализация жизни и быта социального круга, к которому принадлежал молодой Аксаков со своими друзьями, пристрастность, за которую он подвергся критике со стороны Добролюбова, были осознаны им как автором, продиктованы общим замыслом воспоминаний.
Содержание вышеприведенного монолога Писарева в значительной степени вытекает из поэтики произведения: его апологетичность продиктована и сюжетом, и памятью жанра, требовавших от автора если не прославления, то хотя бы оправдания поступков и образа жизни героев. Как мы увидим ниже, Аксаков редко воспроизводит в своих произведениях развернутые монологи персонажей, и, появляясь в тексте, они выполняют целый ряд функций. Этот отрывок, в частности, кроме того что служит созданию рельефного образа героя, подготавливает, настраивает читателя на восприятие заключительной и наиболее идейно значимой части аксаковских мемуаров. Как и положено «второму сюжету», который обычно «до поры присутствует в романе подспудно, однако в какой-то момент (чаще всего в финале) он, так или иначе, вторгается в движение эмпирического сюжета, торжествуя над ним в «последних» смысловых итогах произведения»116. Так и в «Литературных и театральных воспоминаниях», по мере приближения к концу, он заявляет о себе. Вначале это происходит подспудно, только все чаще в рассказе чувствуется обеспокоенность Аксакова здоровьем Писарева. И вот появляется авторская ремарка, маркирующая начало заключительной части произведения: «Приступаю теперь к рассказу самого тяжелого и грустного времени в моих «Воспоминаниях»» (Аксаков III, 131). С этого момента тема и мотивно-сюжетная структура мемуаров становятся совсем иными. Если ранее основное их содержание вращалось вокруг радостей и забот повседневной литературно-театральной жизни, то теперь переплетение двух лейтмотивов: «смертельной болезни» и «творчества» – становится главным основным способом выражения выходящего на первый план «скрытого сюжета». Для иллюстрации этого приведем лишь один отрывок: «Я уже сказал, что Писарев продолжал кашлять и неутомимо работать. Он кончил, поправил и вторично прочел нам и переписал набело отличным почерком «Слово в память Капниста». Все мы были увлечены силою и красотою языка, стройностью и глубоким чувством, и даже чувствительностью, с которою было написано это сочинение; последнего качества мы никогда не замечали во всем, что писал Писарев, и это нас всех изумило. Имея слабую грудь и голос, он поручил мне чтение своей прекрасной статьи в Обществе любителей российской словесности» (Там же). Описание болезни поначалу вносит дополнительные, трагические обертоны в рассказ о его литературном творчестве, а по мере приближения к финалу, рассказу о смерти Писарева, мы начинаем понимать, что в лице этого героя выносится суждение о месте человека культуры в жизни русского общества, о трагедии нераскрывшейся личности и нереализованного таланта: «Так кончил свою жизнь, на двадцать седьмом году, Александр Иванович Писарев. Великие надежды возлагали на него все, коротко знавшие его необыкновенный ум, многосторонний талант, душевную энергию и нравственные силы» (Аксаков III, 143). Эти слова, лаконичные, этикетные по форме, в контексте воспоминаний Аксакова приобретают своего рода элегическую окраску, особенно на фоне следующего за ними приложения-некролога.
Мы упоминали ранее о наличии двух, уходящих в далекое прошлое, противоположных тенденциях, повлиявших на мемуарно-биографическую прозу. Одна, своими корнями связанная с риторическими жанрами надгробной речи и апологии, ставила перед собой задачу прославить и увековечить память героя, опираясь на значимость его общественной роли. В середине XIX столетия она обрела новую жизнь, воплотившись в форме журнального некролога и поздравительного адреса. По характеристике Д. Я. Калугина, исследовавшего проблематику биографических нарративов того времени, они представляли собой «панегирики с элементами послужного списка и наиболее формализованной характеристикой нравственных качеств»117. Другая тенденция, впитавшая в себя многочисленные влияния – от античного жанра «исповеди» до сентиментального и бытового романа, – утверждала уникальность и ценность внутренней, душевной жизни человека. Распад морально-риторической системы, разрушивший старые межжанровые границы, столкнул между собой эти виды биографий: «Если опубликованный в газете или журнале некролог был интересен с точки зрения конкретного информативного повода, то наиболее развернутые жизнеописания, появление которых пришлось на 50—60-е годы XIX века, ставили вопрос о легитимации того или иного способа проживания жизни, что выражалась в ожесточенной полемике на страницах русских газет и журналов»118. Все вышесказанное можно приложить и к мемуарно-автобиографической прозе того времени.
Аксаков, несомненно, ощущал наличие этих тенденций и даже, в определенном смысле, сталкивал их «лбами» в своих «Литературных и театральных воспоминаниях», используя об, выделенных Д. Я. Калугиным нарратива в рассказе о жизни А. И. Писарева. Он, рассказав подробно в своих воспоминаниях историю своей дружбы с ним, в качестве дополнения приложил небольшой некролог, с включением сведений о его ранней театральной деятельности, предуведомив этот текст примечательным формальным зачином: «Для гг. любителей биографии и библиографии считаю нелишним сообщить некоторые сведения о Писареве и о его театральных сочинениях, написанных и сыгранных до моего переезда в Москву» (Аксаков III, 143). Это приложение написано Аксаковым в стилистике, свойственной его театрально-критическим статьям, в контраст к интимно-разговорной манере основного текста мемуаров. В нем он приводит некоторые дополнительные сведения о водевилях своего друга. Эта информация мало что добавляет к художественному образу этого героя: она формальна и условна. Даже рассказ о детстве, извлеченный из письма матери Писарева, не вносит в него какую-либо сентиментальную ноту, а, наоборот, выглядит как элемент «послужного списка»: «Писарев родился 1803 года, июля 14-го, Орловской губернии, Елецкого уезда, в селе Знаменском, принадлежавшем его отцу. По пятому году Писарев не только умел читать по-русски и по-французски, но даже любил чтение. Вообще, в детстве своем он возбуждал удивление во всех окружавших его — своим рановременным, необыкновенным умом. Тринадцати лет он был отдан в университетский пансион и через четыре года вышел из него вторым учеником десятого класса. Имя его, как отличного воспитанника, было написано на золотой доске. Еще в пансионе он с увлечением занимался русской литературой, а по выходе из него вполне предался ей» (Там же). В итоге, это приложение, включенное Аксаковым в текст своих воспоминаний, своими формализованными языком и содержанием как бы оттеняет, помогает лучше оценить художественные достоинства его мемуаров, новизну для своего времени их поэтики и стилистики.
В середине XIX столетия русская мемуаристика переживала период своего становления. Это был сложный процесс: когда она как бы нащупывала свое место в большой литературе, среди прочих жанров, имеющих к тому времени за своими плечами длительную историю развития. Расцвет мемуарного творчества Сергея Тимофеевича Аксакова пришелся именно на это сложное время, и потому оно занимает в русской литературе особое место. Не будет натяжкой сказать, что оно во многом носило экспериментальный характер. Выработанный им стиль повествования оказался исключительно восприимчив к влиянию со стороны более развитых жанров – в первую очередь, романа и очерка. Благодаря этому мемуарная проза стала «сюжетной» и обогатилась новыми способами построения образа автора и героев. В следующей главе нашей работы мы подробно рассмотрим, как тематика, ранее свойственная только роману, функционирует в отдельно взятом произведении, в «Семейной хронике», и проведем имманентный анализ ее мотивно-сюжетной структуры.
1 Показательно в этом отношении введение, предпосланное А. Болотовым своим запискам: «А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей и тех из моих родственников и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь сведения, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико, а старался только, чтоб чего не было пропущено; почему в случае если кому из посторонних случится читать сие прямо набело писанное сочинение, то и прошу меня в том и в ошибках благосклонно извинить». Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. В 3 тт. Т. I: 1738—1759. М.: Терра, 1993. С. 4.
2 Подробно этот процесс рассмотрен в работах: Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. М.: Наука, 1991. Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997.
3 Подробнее см.: Ишкиняева Л. К. Творчество С Т Аксакова и литературная традиция XVIII столетия: автореф. дис. … канд. филол. наук. Ульяновск, 2012.
4 «M. Aksakof, qu’on ne l’oublie point, n’a pas écrit un roman: ce qu’il nous donne, c’est une chronique, la chronique d’une famille russe sous Catherine II» Delaveau H. Цит. соч. С. 879
5 Вяземский П. А. Записки графини Жанлис. Париж. 1825 года. // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. I. СПб., 1878. С. 206
6 Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII... С. 145.
7 Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году // Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). Л., 1991.
8 Добролюбов Н. А. Цит. соч. С. 350, 359.
9 Добролюбов Н. А. Русская сатира в век Екатерины // Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 томах. Т. II. М., 1952. С. 374.
10 Чернышевский Н. Г Заметки о журналах. Сентябрь 1856. // Чернышевский Н. Г Полн. собр. соч. в 15 тт. Т. III. М., 1947. С. 699—700.
11 Бахтин М. М. Эпос и роман. // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 231.
12 Анненков П. В. С. Т. Аксаков и его «Семейная хроника». // Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. Аленький цветочек. М.: Олимп: Издательство АСТ, 1998. С. 428—429.
13 Здесь и далее С. Т. Аксаков цитируется по изданию: Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 4 тт. М., 1955. Номер тома обозначен цифрой римской, страницы – арабской.
14 В одном из писем И. С. Тургеневу Аксаков так жалуется на придирки цензуры: «Насчет второго издания моих «Записок» я сообщу вам неприятную новость, которая приведет вас в совершенное изумление: г. цензор Флеров исключил, кроме разных выражений, несколько страниц целиком. Выражения, например, исключены следующие: «отлетная строевая птица» – строевая не понравилась г. цензору; «народ не ест давленой птицы» – эти все слова вымараны. Как это ни глупо, но из-за этого я не завел бы процесса, если б г. Флеров не исключил все описания тетеревиных токов, а также тока дупельшнепов и перепелов. <…> Теперь можно себе представить, что сделает цензор с «Биографией Загоскина», которая должна была выйти в первой книжке «Москвитянина»». Переписка И. С. Тургенева… С. 304.
По иронии судьбы, предположения Аксакова о цензурных препятствиях оправдались ровно век спустя. При подготовке четырехтомного собрания сочинений в 1955 году «Биография Загоскина» не была включена в его состав по «идеологическо-стилистическим» причинам – как написанная, по мнению С. И. Машинского, в: «тоне, мало соответствовавшем реальному значению этого писателя» (Аксаков III, 698). Опубликована она была в пятитомнике, готовившемся уже в хрущевские времена: вместе с другими, ранее неизвестными его текстами.
15 Напомним кратко хронологию публикации «Семейной хроники». Первый, небольшой эпизод из нее появился еще в 1846 г. в «Московском литературном и ученом сборнике». После перерыва в работе продолжительностью в 8 лет, в 1854 году, в «Москвитянине» публикуется первый «отрывок». Затем, в 1856-м, – четвертый (в «Русской беседе») и пятый (в «Русском вестнике»). В том же году, под одной обложкой с «Воспоминаниями», эти три отрывка выходят отдельной книгой. И почти сразу же во 2-е издание Аксаков добавляет оставшиеся два, после чего «Семейная хроника» наконец принимает знакомую нам, законченную форму.
16 «This is, when Aksakov wanted to write a real autobiography, he did so without worrying about family propriety. In fact, there were a number of purely literary reasons for Aksakov’s choice of genre». Wachtel A Op. cit. P. 65.
17 Об этой идейной борьбе см.: Машинский С. И. Цит. соч. С. 535—540.
18 Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982. С. 211.
19 Бахтин М. М. Цит. соч. С. 196.
20
«Зубами скрежетал бессильно Буало.
Молчи, аристократ! – ему я крикнул зло. –
Война риторике, мир синтаксису, дети!»
И грянул, наконец, год Девяносто Третий». (Пер. Э. Линецкой)
Гюго В. М. Ответ на обвинение. // Гюго В. М. Собрание сочинений в 15 томах. Том 12. М.: ГИХЛ, 1956. С. 289.
21 Эйхенбаум Б. М. Мой временник // Эйхенбаум Б. М. «Мой временник». Художественная проза и избранные статьи 20—30-х годов. СПб., 2001. С. 129.
22 Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 1997. С. 93
23 Когда в начале 50-х годов Аксаков задумал издавать ежегодный альманах «Охотничий сборник», то ему было это запрещено как лицу, «известному III Отделению с 1830 года» и, поскольку «нельзя предполагать, чтобы он при издании помянутого сборника руководствовался должною благонамеренностью». Машинский С. И. Цит. соч. С. 344.
24 Черепанов С. И. Воспоминание о ловле зверей в Сибири. // Библиотека для Чтения. 1854., Кн. 2, 4, 5. Современное переиздание: Черепанов С. И. Воспоминания о ловле зверей в Сибири: очерк // Байкал: литературно-художественный журнал. Улан-Удэ, 2008. № 3. С. 138—171.
25 Стилистике очерков Аксакова посвящена работа: Гусейнова Т. В. Стиль малой прозы С Т Аксакова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Магнитогорск, 2012. 22 с.
26 Покровский К. «Записки об уженьи рыбы» и «Записки ружейного охотника» С. Т. Аксакова, как художественно законченный тип звероловных книжек. // Сергей Тимофеевич Аксаков его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Сост.В. Покровский. М., 1912. С. 92 –121
27 Русское издание: Уолтон И. Искусный рыболов, или Медитация для мужчин. М., 2010.
28 Hodge T. P. Translator’s introduction. // Aksakov Sergei Timofeevich. Notes on Fishing. Translated, Introduced, and Annoted by Thomas P. Hodge. N.Y., 1997, p. xi – xxxvii.
29 Анненкова Е. И. Аксаковы… С. 14.
30 Тургенев И. С. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии... С. 518.
31 Войтоловская Э. Л. Цит. соч. С. 162.
32 Ломунов К. Н. Традиции «натуральной школы» в творчестве писателей, вступивших в литературу в 50-е годы: С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой // «Натуральная школа» и ее роль в становлении русского реализма. М., 1987. С. 247.
33 Машинский С. И. Цит. соч. М., 1973. С. 323.
34 Чичерин А. В. Очерки… С. 146.
35 В последние годы экфрасис все сильнее привлекает внимание исследователей, подробнее о нем см.: Экфрасис в русской литературе. / Сборник трудов Лозаннского симпозиума. Под ред. Л. Геллера. М,: МИК, 2002.; Морозова Н. Г. Экфрасис в прозе русского романтизма: Дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук. Новосибирск, 2006.
36 Аксаков, правда, перепутал автора портрета, на что обратила внимание Э. Л. Войтоловская в своей книге См.: Войтоловская Э. Л. Цит. соч. С. 62—64.
37 Ритор Феон (I – нач. II в. н.э.) Цитируется по: Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (К проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточно-славянские параллели. Структура текста. М.: Наука, 1977. С. 259. «Прогимнастиматик Афтоний дает такую дефиницию экфрасиса: «Описательное слово, которое наглядно представляет перед глазами изъясняемое». Схолиаст прибавляет к этому: «Экфрасис отличается от повествования тем, что второе содержит голое изложение событий, между тем как первый тщится как бы превратить слушателей в зрителей»» Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Аверинцев С. С. Образ античности. СПб., 2004. С. 99.
38 Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»… С. 60.
39 Гоголь в воспоминаниях современников. / Редакция текста, предисловие и комментарии С. И. Машинского. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1952. (Серия лит. мемуаров) С. 495.
40 Письма С. Т. Аксакова К. А. Трутовскому и воспоминания художника опубликованы: «Русский художественный архив» Вып. 2, 3—4. М., 1892; Трутовский К. А. Воспоминания о Сергее Тимофеевиче Аксакове // Русский художественный архив. Вып. 2. М., 1892. С. 49—56.
41 «Aksakov's memory was primarily visual. In Years of Childhood, the act of perception, particularly visual perception, becomes a central concern». Durkin A. Op. cit. P. 182.
42 Примером может служить картина Жана-Батиста Удри «Собака, указывающая куропатку» (1725), хранящаяся в Эрмитаже. В середине – второй половине XIX века этот сюжет приобрел особенную популярность в английской живописи, в многочисленных работах Артура Тейта (1819—1905), Томаса Блинкса (1853 –1910) и др.
43 Поспелов Г. Н. Очерк // Большая Советская энциклопедия. Т. 19. М., 1975. С. 47.
44 Якимович Т. К. Французский реалистический очерк 1830—1848 гг. М., 1963. С. 308.
45 Виноградов В. В. О теории художественной речи… С. 73.
46 «Читал он мне, помню, между прочим «для руководства», Аксакова «Уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника»». Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. I. М., 1964. С. 255.
47 Шкловский В. Б. Повести о прозе. Т. II. М., 1966. С. 193.
48 Это становится ясно из внимательного прочтения филиппики, обращенной Набоковым в адрес этого произведения в «Других берегах». В ней он одновременно ставит под сомнение и компетенцию Аксакова в вопросах науки о бабочках, и язык его очерка: «Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе». Набоков В. В. Другие берега.. Л., 1991. С. 102.
49 Набоков в свои произведения не раз включал различные аллюзии на книги Аксакова и на него самого. Как правило, они носят яркую ироничную или прямо негативную окраску – как, например, в романе «Ада»: «Он [отец], был не в доме, вспоминал Ван, на прогулке среди мрачного ельника со своим наставником Аксаковым и Багровым-внуком, соседским мальчишкой, которого поддразнивал, щипал, над которым до невозможности потешался, – милым и тихим малолеткой, имевшим тихую, похоже, патологическую страсть к зверской расправе над ночными бабочками, кротами и иными пушистыми существами». Набоков В. В. Ада, или Эротиада. (Семейная хроника). М., 2006. С. 176.
50 Белинский В. Г. Ответ «Москвитянину». // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 тт., Т. VIII, М., 1982. С. 295. Из текста статьи не совсем ясно, кто имеется в виду, поэтому В. И. Кулешов, автор примечаний к этому тому собрания сочинений В. Г. Белинского, делает такое уточнение: «… два знаменитые… имени, которые симпатизируют славянофилам – это Н. В. Гоголь и С. Т. Аксаков». Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9-и тт., Т. VIII, М., 1982. С. 702.
51 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 тт., Т. VIII, М., 1982. С. 372.
52 Якимович Т. К. Цит. соч. С.184—185.
53 Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII... С. 155—156.
54 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977. С. 9.
55 Хомяков А. С. Сергей Тимофеевич Аксаков // Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 412.
56 Гинзбург Л. Я. Цит. соч. С. 9—10
57 Цит. по: Машинский С. И. Цит. соч. М., 1973. С. 356.
58 «What makes Aksakov’s and De Quincey autobiographies paradigms is that we know the whole process of their recovery of the past. Lifelong man of letters, they yet succeeded only late in life in recovering and breathing life into their childhood and boyhood. Psychologists ought to study what Aksakov and De Quincey, with their great self-knowledge, still did not know about themselves at the age of sixty, the all-important memories which had lived beneath the threshold of consciousness for so long and would be recovered at last». Salaman E. The Great Confession... P. 296.
59 Флоренский П. А. прот. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 208
60 Аверин Б. В. Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб., 2003. С. 18.
61 Для середины XIX века такое словоупотребление было уже несколько архаичным, но в словаре Даля соседствуют оба значения: «житейские записки; события, описанные очевидцем, современником; | записки ученых обществ» Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II (И – О), М., 1994, (Репринтное воспроизведение с издания 1903—1909 гг. под ред. Бодуэна-де-Куртенэ). с. 829
62 Гинзбург Л. Я. Цит. соч. С. 141, 145.
63 Эйхенбаум Б. М. Черты летописного стиля в литературе XIX века // Эйхенбаум Б. М. О прозе. 1969. С. 371.
64 См: Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975. С. 101. В контексте проблемы того, какую роль на поэтику и стилистику мемуаристики оказывал эпистолярный жанр, примечательно, что, побуждая Нащокина к написанию мемуаров, Пушкин предлагал ему их писать в форме писем. В своем письме 2 декабря 1832 года он спрашивает: «Что твои мемории? Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь – и другой». Пушкин А. С. Письмо 501. П. В. Нащокину. От 2 декабря 1832 г. // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 тт. Т. X. Л., 1979. С. 328
65 Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987. С. 54.
66 Эйхенбаум Б. М. Черты летописного стиля... С. 374—375.
67 Шёнле Андреас. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий 1790—1840. СПб., 2004. С. 201.
68 Шкловский В. Б. Цит. соч. I том. М., 1966. С. 165.
69 Подробнее см.: Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984. С. 165—168, 176—178.
70 Пушкин А. С. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году : Соч. М. Н. Загоскина // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. VII. Л., 1978. С. 72.
71 К примеру, многие читатели «Войны и мира», особенно относившиеся к старшему поколению, не просто ждали от автора общего правдоподобия описываемых событий, но и пристрастно относились к малейшему отклонению от исторической достоверности в самых незначительных деталях. На Толстого обрушился шквал критических замечаний от очевидцев и участников войны 1812 года: А. Норова, П. Вяземского и других. Подробнее об осмыслении Отечественной войны 1812 года в мемуарной литературе см.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М.: Наука, 1980.; «России верные сыны...»; Отечественная война 1812 г. в русской литературе первой половины XIX в. В 2 тт. / Сост.: Л. Емельянов, Т. Орнатская Л., 1988.
72 Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем. Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М., 2007. С. 34.
73 Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 455
74 Подробнее см.:Головко В. М. Незавершённая повесть С. Т. Аксакова «Наташа» в контексте эволюции жанра. / С. Т. Аксаков и славянская культура: Тезисы докладов юбилейной конференции 27-30 сентября. Уфа. 1991. С. 45—48.
75 Гинзбург Л. Я. Цит. соч. С. 10
76 Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб. 1998. С. 275
77 «Это [апосиопеза] стилистическая фигура, недомолвка, прервание речи и оставление какой-либо темы вследствие волнения, отвращения, стыдливости и т. д. Умолчание отражает повышенную эмоциональность речи и мобилизует контекстуальное воображение читателя: вследствие умолчания внимание реципиента тем более концентрируется на том, что замалчивается; прерванную мысль контекст обычно позволяет реконструировать до цельности. Таким образом, умолчание не создает тайны, а служит средством акцентирования того, о чем прямо не сказано». Назиров Р. Г. Фигура умолчания в русской литературе //Поэтика русской и зарубежной литературы: Сборник статей. Уфа, 1998. С. 57.
78 Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 33.
79 Подробнее об этом см.: Женетт Ж. Фигуры. В 2 тт. Том 1—2. М., 1998. С. 321—331.
80 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 тт., Т. III, М.: Худ. лит., 1978. С. 326—327.
81 Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 тт. Т. IV. М., 1966. С. 177
82 Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. Т. I, вып 1, 2. (XVIII век). СПб., 1910. С. 637—638. О типологическом и мотивном сходстве «Детских лет Багрова-внука» и записок А. Т. Болотова см.: Салова С. А. А. Т. Болотов и С. Т. Аксаков: о культурно-историческом контексте «детской темы» в русской автобиографической прозе XVIII – XIX веков // Аксаковский сборник. Выпуск 5. Уфа, 2008. С. 118—125.
83 Подробнее см: Савкина И. Цит. соч. С. 76
84 «Уже давно мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, который теперь посвящаю вам. Я отклонила все их просьбы, но не могу отказать вам. Итак, примите историю моей жизни, грустную историю, из которой легко было бы составить увлекательный роман. Она с вашим именем явится в свет. Я писала ее без приготовления, так, как я говорю, и с полной откровенностью, устоявшей против всех горьких уроков опыта». Записки Княгини Е. Р. Дашковой. М., 1990. Репринтное воспроизведения с издания: Записки Княгини Е. Р. Дашковой, писанные ей самой. Лондон, 1859. С. 1. Примечательно в этой цитате, кроме прочего, еще и восприятие Дашковой своей собственной жизни как возможного сюжета для романа.
85 Примечательно в этом отношении наследие А. П. Керн. В эпистолярную форму облечены не только ее воспоминания, но и дневники, в стиле которых А. М. Гордин обнаруживает «влияние писателей сентиментального направления». Гордин А. М. Анна Петровна Керн и ее литературное наследие. // Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С. 23.
86 «В эпоху разложения какого-нибудь жанра – он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление». Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 257—258.
87 Шенрок В. И. С. Т. Аксаков и его семья // Журнал Министерства народного просвещения. 1904, № 10. С. 383.
88 Там же.
89 В «Воспоминании об Александре Семеновиче Шишкове» он дает такую характеристику своим юношеским взглядам: «я не любил Карамзина и с дерзостью самонадеянного мальчика смеялся над слогом и содержанием его мелких прозаических сочинений! Это так неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой. Я не мог понимать сознательно недостатков Карамзина, но, вероятно, я угадывал их по какому-то инстинкту и, разумеется, впадал в крайность. Понятия мои путались, и я, браня прозу Карамзина, был в восторге от его плохих стихов, от «Прощания Гектора с Андромахой» и от «Опытной Соломоновой мудрости»» (Аксаков, II, 266).
90 Виноградов В. В. Гоголь и натуральная школа. // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 211
91 Анненкова Е. И. Гоголь и Аксаковы… С. 15.
92 Чичерин А. В. Очерки… С. 161.
93 Здесь и далее выделение разрядкой в цитатах – наше. А. Ч.
94 Тынянов Ю. Н. Литературный факт... С. 266.
95 Подробнее об этом см.: Григорьева Н. И. О поэтике «Исповеди». // Блаженный Августин. Исповедь. / перевод и коммент. С. Е. Сергиенко; Предилсл. и послесл. Н. И. Григорьевой. М.: Гендальф, 1992. С. 507—541.
96 Машинский С. И. Цит. соч. С. 280.
97 Роль переписки в эволюции творчества и мировоззрения Гоголя подробнейшим образом исследованна Е. И. Анненковой. См.: Анненкова Е. И. Гоголь и русское общество. СПб.: ООО «Издательство «Росток»», 2012.
98 Теме христианства Гоголя, а также истории общественной и литературной дискуссии по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями» посвящена обширная литература. Упомянем лишь несколько работ: Анненкова Е. И. Гоголь и русское общество. СПб.: ООО «Издательство «Росток»», 2012; Смирнова Е. А. С. Т. Аксаков и его книга «История моего знакомства с Гоголем» // Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем / Изд. подгот. Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова. М.: Изд. АН СССР, 1960. С. 227—249. Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте СПб. 1997; Зеньковский прот. В. В. Гоголь. М., 1997; Марголис Ю. Д. Книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» Основные вехи истории восприятия. СПб. 1998; а также ряд статей из сборника: Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб., 2011.
99 Анненкова Е. И. Гоголь и Аксаковы… С. 5. Когда речь идет о творческих личностях, тем более, таких как Гоголь и Аксаковы, трудно разграничить идейные и эстетические составляющие мировоззрения. В своей монографии «Аксаковы» Е. И. Анненкова исследовала глубинные причины противоречий между ними. В частности, она отмечает, что «миропонимание автора в «Выбранных местах» исключает семейное, кровное чувство» и в этом отношении принципиально противостоит базовым представлениям о семье и личности, свойственным Аксаковым, поэтому: «В каком-то смысле это была антиаксаковская книга: она выразила то миропонимание, которое кардинально расходилось с принципиальными установками семьи, притом что многие этические и эстетические позиции, в ней заявленные, могли с аксаковскими совпадать». Анненкова Е. И. Аксаковы… С. 355.
100 Виноградов В. В. Гоголь и натуральная школа... С. 204.
101 Машинский С. И. Цит. соч. М., 1973 С. 303.
102 Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. // Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., Правда, 1989. С. 44. Подробнее о художественных особенностях мемуарной и биографической прозы П. В. Анненкова см.: Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. Избранные труды (1898—1928). СПб.., 1999. С. 436—506; Манн Ю. Мемуары как эстетический документ // Манн Ю. Диалектика художественного образа. М.: Советский писатель, 1987. С. 155—170; Кулешов В. И. П. В. Анненков – мемуарист. // Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 5—22.
103 Об особенностях биографического метода П. В. Анненкова и, в частности, о созданной им концепции «оправдания характера» см.: Калугин Д. Я. Жизнь Н. В. Станкевича, описанная П. В.Анненковым: опыт построения биографического нарратива // Проблемы нарратологии и опыт формализма / структурализма. Сборник статей. Отв. ред. В. М. Маркович, В. Шмид. СПб, 2008. С. 258—278.
104 Анненков П. В. Гоголь в Риме... С. 110.
105 Там же. С. 85.
106 Калугин Д. Я. Искусство биографии: изображение личности и ее оправдание в русских жизнеописаниях середины XIX века // Новое литературное обозрение. М., 2008 № 91. С. 84.
107 Добролюбов Н. А. Разные сочинения С. Аксакова. // Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 томах. Т. II. М., 1952. С. 470.
108 Мы выносим за скобки почти на сто процентов архивную «Историю моего знакомства с Гоголем».
109 Добролюбов Н. А. Разные сочинения С. Аксакова.... С. 465—466.
110 Мы используем здесь термин, введенный Н. Я. Берковским при исследовании просветительского романа XVIII века, в том значении, которое ему придал В. М. Маркович, анализируя «Мертвые души»: «Параллельно сюжету, отражающему логику реальных законов современной общественной жизни, здесь часто развертывался иной сюжетный ряд, воплощавший абсолютную истину «конечных» сущностей человека, общества, истории». Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. (30—50-е годы). Л., 1982 .С. 33.
111 Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 115.
112 Там же. С. 114
113 Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте. (К типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю. М. О русской литературе, СПб., 1997. С. 804.
114 Калугин Д. Я. Русские биографические нарративы XIX века: от биографии частного лица к истории общества // История и повествование. Сборник статей. Под ред. Г. Обатнина, П. Песонена. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 183.
115 Пумпянский Л. В. Романы Тургенева и роман «Накануне» // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 383.
116 Маркович В. М. Цит. соч. С. 33.
117 Калугин Д. Я. Русские биографические нарративы XIX века... С. 184.
118 Там же. С. 184—185.