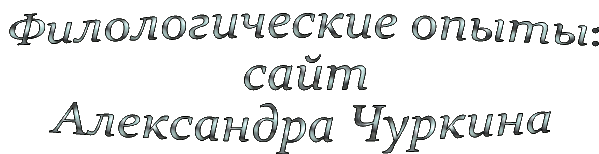Чуркин А. А.
Рассказы правдивые и не очень
В середине 80-х, тринадцатилетним подростком довелось мне попасть в одно военное медицинское учреждение. Афганской войне конца тогда еще не предвиделось, работы у врачей было много, особенно у хирургов. Мало, что сохранилось у меня в памяти из того времени: молодая психика заботливо изгладила из нее все страшное и опасное для души. Вот только один разговор сохранился в ней навсегда.
Я не знаю его имени, не помню его лица, а только, юношеский голос и руки: руки, осторожно разглаживавшие складки у меня на простыни, руки, тщательно взбивавшие подушку. Моя мама попыталась его остановить: «Не беспокойтесь, у вас и так много работы, я сама все сделаю». Он молча поправил на мне одеяло, пошевелил что-то на капельнице и вдруг заговорил медленным шепотом: «Знаете, я буду врачом на подводной лодке. У меня не будет там ни медсестры, ни нянечки. Больные смогут ждать помощи только от меня. Помощи во всем. Мне придется и диагнозы ставить, и койки перестилать. Лучше будет, если я привыкну к этому еще здесь. А простынь надо разглаживать тщательней, чтоб складок не было, из-за них пролежни». Он замолчал… Мама тоже молчала… А я уже спал…
Я не знаю, как его звали, и на какой подводной лодке он потом служил. Господи, лишь бы не на «Курске»!
– Матушка-Государыня, все только от твоего слова сейчас зависит. Медлить больше нельзя, Долгорукий с Голицыным нас опередят – дело будет уже не поправить. Все потеряем. Все, что трудами Государя Петра Алексеевича создано было, все рухнет. Рухнет безвозвратно.
– Саша...
– Александр Данилыч, нам подмога, у него опыт и знание государства. Главное, ты, Матушка-Государыня, согласие дай занять престол, а там помощников найдем. Все, кому память усопшего Государя дорога, тебя поддержат. А иначе, им самим же и не жить. Всех, всех за Камень сошлют.
– Не знаю. Ты сам слышишь, что говоришь?.. – Государыня говорила тихо. Язык ее был безупречно русский, и следа в ней уже не осталось от немки Марты.
– Матушка-Государыня, ты не понимаешь, мы без тебя ничто! Гвардия только твоего слова ждет. Без тебя, без твоего согласия, мы бессильны. Пожалей себя и нас!
В палату вошла медсестра, и сделала мне укол в желтую руку. В синюю было нельзя, там еще желваки не рассосались.
Матушка-Государыня стояла, рассеянно наблюдая за действиями медсестры. Нужно было что-то решать. Гвардия окружала Сенат. Манифест должен быть оглашен заутро.
С «Великим и могучим» у меня всегда были проблемы: не то чтоб он такой сложный; просто характер у него женский, непредсказуемый, так и жди подвоха. Попробуй сходу догадаться, какое слово пишется по моим правилам, а какое является исключением.
В Университете зачет по русскому принимал у меня профессор Валентин Иванович Трубинский. Я смотрел на него с трепетом, поскольку еще совсем недавно запоем прочел его учебник по диалектологии. Да и он смотрел на меня тоже как-то странно. То взглянет на листок с моим диктантом, то на меня, то опять на лист, то опять на меня.
– Почерк у вас неразборчивый: здесь вы явно хотели написать «и», а получилось что-то похожее на «е», – наконец, сказал он тихонько.
Я спорить из-за почерка не стал.
– А здесь, наоборот, «е» похоже на «и». Вы ведь не можете не знать, как пишется слово «винегрет»?.. Я не буду считать это ошибкой.
Я пригляделся листку с исчерканным диктантом и, понял, как же оно все-таки правильно пишется.
Затем Валентин Иванович, обнаружил неразборчивость почерка в словах «дуршлаг», «искусство» и еще каких-то…
Зачет по русскому я получил. Хотя что-то мне говорит, что на самом деле здесь мне по второму разу зачлась диалектология, которую я сдавал ему же.
Гаврюшку, кота нашего, мы увозим с дачи в конце Августа. Становится темно, холодно, люди съезжают и закрывают на зиму дома. Он доверчивый, без страха по чужим домам ходит; вдруг запрут и уедут.
В отсутствии кота в доме поселилась мышь. Дивное существо, интеллигентное. Включишь, бывает, свет внезапно ночью, а она на столе книжную корочку грызет. Почему-то предпочитает она Тургенева: ностальгирует, наверно, по дворянским гнездам. Нам, вообще, Тургенева не жалко, да грех гостью кормить чем попало. Мы стали класть Дуське, так мы ее прозвали, еду в кошачье блюдце: сыр, сосисочку мелко порубим и вместо хлеба горкой семечки, как рис для китайцев.
Целую неделю по ночам я пытался ее сфотографировать, да прицелиться фотоаппаратом на слух оказалось невозможно.
Когда мы уезжали, соседи нас умоляли не оставлять ей еды на зиму. Но как-то неудобно было ее просто так бросать. Мы пошли на компромисс: рассчитали ей запасов на три месяца. А теперь волнуемся, как там Дуська, голодно ей, наверно? Зря мы так.
Я звал его Шамиль. Вообще, все звали его по-разному: кто Черныш, кто Васька. Но какой он Васька: черный с рыжими подпалинами, со шрамами от собачьих, зубов, с оборванным ухом? Правда, ухо он потерял случайно: уснул поздней осенью около парника, а когда проснулся, оказалось, что оно к стеклу примерзло.
Появлялся он не часто, обычно под осень, когда улетали птицы, исчезали лягушки, мыши и прочая дичь. Тогда вся округа и начинала его понемногу подкармливать: Любовь Петровна, мы, Николай Алексеевич, Зинаида Павловна, да и другие соседи. Шамиля было невозможно не накормить, хотя сам он еду ни когда не выпрашивал, не терся у ног, просто приходил и садился поодаль.
Задумался я тут, какой у него был характер? Что о нем можно рассказать? Немногое. Шамиль был кот серьезный и с чувством собственного достоинства. Наш Гаврюшка, соседская Катя, и даже огромный Тимоха, при нем уважительно притихали.
Вообще, честно говоря, не люблю я сентиментальных рассказов о том, как животные лечат своих хозяев, ложатся на самое больное место, согревают его или вылизывают. Но это совсем другая история. Александр Дмитриевич заболел действительно серьезно: тяжелый инсульт, грозила гангрена стопы. Все уже понимали, что это значит в его возрасте. Все понимали, и старались держаться, не показывать вида. Но однажды Зинаида Павловна пришла к нам вся в слезах: «Я не могу этого видеть! Пойдемте. Посмотрите.»
День был жаркий, окна и двери были нараспашку. Александр Дмитриевич лежал на своей кровати, в полудремоте. На его голове, обхватив ее со всех, сторон растянулся наш Гаврюшка, прямо на сердце свернулась клубком их кошка Катя, а на ноге Шамиль. Смотреть на это без слез, действительно, было невозможно. Может быть, если вдуматься, в этом не было ничего особенного: Гаврюшка – домашний увалень, ему все равно, где и к кому приткнуться, Катя обожала хозяина. Все бы так, если бы не Шамиль! Кот буквально обнял синюшно-багровую ногу, по сути дела, чужого ему человека, укутал ее, укрыл.
Что о нем сказать? – У Шамиля было доброе сердце.
Наука, математический анализ, теория вероятности – на них держится человеческий разум. Так мне всегда казалось. А котам все это краснобайство заменяет интуиция и здравомыслие. Мы бы еще долго размышляли, что значили те странные звуки из печной трубы, а для Гаврика такого глупого вопроса не стояло: «Стрижи, будь они не ладны! или на худой конец дрозды. Кому еще взбредет в голову в печной трубе барахтаться?»
Тете Нине, правда, поначалу закралась та же мысль:
– Саша, у нас беда, птица в печной трубе застряла, – была ее первая фраза по приезде нашем из города на дачу.
Я чуть не поперхнулся:
– Быть такого не может. Это невероятно. Такого не было ни разу, ни у кого!
Мое слово в доме авторитетное: «Значит это не птица, раз Саша сказал». Для всех авторитетное – для всех, кроме Гаврика.
Если интуиция и здравомыслие – качества котов, то птиц напротив, отличает глупость и нетерпение: чем больше мы делали для ее спасения, тем меньше оставалось надежды на успех. Она словно бешеная шарахалась по дымоходу, не желая сделать последний шаг: вылететь наконец через распахнутую дверцу буржуйки. И молотком мы по трубе стучали, и ругались между собой, и заслонку дергали взад-вперед. Гаврюха смотрел на наши старания и размышлял. Был еще выход разбирать печку, но установлена она была на совесть, не мной. В общем, оставалась надежда только на человеческий разум.
– Если не удается выманить ее снаружи, будем действовать изнутри, – сказала мама, надевая брезентовые перчатки. Человеческий разум оправдал надежды, и когда мамин кулак просунулся снизу из топки в трубу, птица мирно уселась ей на руку и позволила себя спасти.
Мы уже садились пить чай, впечатлений было много, надо было обсудить: интуицию Гаврюхи и тети Нины, находчивость мамы. Когда мы дошли до вопроса, почему птицы, прежде чем вылететь в распахнутое окно, полчаса мечутся по комнате, мы услышали знакомый шорох в трубе.
Авторитет теории вероятности рухнул в моих глазах, теперь уже на веки.
Сами понимаете, опытом, а главное, методом мы уже владели, и второго стрижа вытащили уже быстрее. От первого он отличался лишь цветом оперения: основной запас сажи из нашего дымохода унес на своих перьях первый.
В третий раз теория вероятности опозорилась через два дня ближе к полуночи. Электричество было отключено по всему Синявино, тьма стояла кромешная.
– Пусть эта дура сама выбирается, или ждет утра, с фонариком ее оттуда не достать, – Решение семейного совета было принято единогласно. Воздержался только Гаврик. Ему было некогда: он когтями и зубами пытался вытащить заслонку. Я уверен, что он понимал бессмысленность своих действий, но надо же было как-то переломить так свойственную людям пассивность.
Хотя, честно говоря, с нашим-то опытом и методом, фонарик был уже и не особо нужен, разве только чтоб найти брезентовые перчатки. Все повторилось, как и два дня назад. Птица, на сей раз, оказалось дроздом, а к уже перечисленным свойствам ее характера добавлю соблюдение режима сна. В темноте птицы, оказывается, не летают. Полусонную мы устроили ее на притолоку на крыльце, а утром к разочарованию Гаврика ее там уже не было.
Да, забыл сказать, а чтоб в будущем теория вероятности имела шанс вновь утвердиться в моих глазах, я все-таки починил зонтик на верхушке трубы.
С самого начала почему-то нам ее было очень жалко. Предчувствие, какое-то. Знай она об этом, наверно, послала бы она нас всех матом. Да и в правду, что ее жалеть? А у кого жизнь сладкая? Ей же наоборот, во всем везло: денег куры не клюют, муж авторитетный бизнесмен, дети здоровы, соседи уважают, содчиненные слушаются.
Она легко меняла место работы. Прежде была где-то, то ли главбухом, то ли кладовщицей. Да какая вообще-то разница. У нас она тоже долго не задержалась. После устроилась коммерческим директором крупного предприятия. И все верили, что это еще только начало.
Уходя, она прихватила с собой бухгалтерскую отчетность нашей организации, почти весь документооборот. На нее, конечно, заявили. Нет, не ради поиска правды, просто потому что так полагается. А пока суд да дело, наняли нас, навести порядок хотя бы в тех бумагах, которые еще остались.
Люди зря думают, что бухгалтерия скучное занятие: вот копаешься в платежках, ведомостях, а там, например, счета-фактуры от пекарни с названием «Сладкая жизнь». Одних горчичных сушек на треть миллиона.
Отсудить документы так и не удалось. Видно еще с кем-то она не сработалась. Накануне очередного заседания суда по нашему делу кто-то расстрелял ее машину из автомата в упор, в ста метрах от дома. Говорят, два рожка не пожалел.
Полторы сотни лет назад приехал в Санкт-Петербург из глухой Вологодской деревни молодой парнишка по имени Алексей. Поселился он на Охте, и устроился подмастерьем в монументальной мастерской, полировал камни для надгробий. А через несколько лет переселился в Питер и его брат Василий. Да мало ли тогда приезжало сюда людей? Стоит ли об этом вспоминать?
Лучше расскажу другую историю. В один из приездов в Александро-Свирский монастырь кто-то из нашей группы обратил внимание на два могильных камня. Они лежали за алтарем Преображенского собора. Местные рассказали, что нашли их недавно на деревенском погосте. Получалось, эти два камня было все, что осталось от монастырского кладбища. Есть оказывается судьба и у могильных плит: все кладбище большевики разорили, из надгробий где-нибудь коровник построили, а эти два камня сохранились, даже надписи на них можно было прочитать. На одном было выбито имя Архимандрита Агафангела, а на другом – Василия Ивановича Амосова. Обычные кладбищенские памятники, даже очень скромные, только вот второй был без даты смерти.
Тут и всплыла у меня в памяти история о том, как приехали в Питер полторы сотни лет назад два брата. Алексей стал монахом, и даже архимандритом. А Василий стал купцом, не то что бы богатым, но состоятельным. Так развела их по жизни судьба разными путями.
Но хоть жизни их и сложились порознь, а все-таки они были родные братья, и когда Алексей-Агафангел умер, Василий заказал два одинаковых надгробия, совершенно одинаковых, один для брата, другой для себя – без даты смерти. Только, видно не пришлось ему под ним лежать.
Когда я в последний раз был в Александро-Свирском монастыре, этих надгробий я уже не нашел. Где они теперь, не знаю.
Просветленный приходит из ниоткуда, но всегда вовремя. Узнать его легко, надо только быть внимательным: он появляется из темноты дверного проема и не щурится глядя в глаза солнцу. Золотые капли нектара, сомы-хаомы блестят на рыжих усах, а в руке его пивная бутылка. От него исходит сияние славы.
– Увеличь зазор трамблера, – бросает он мимоходом.
В природе просветленного – знать, в природе помраченного – спорить:
– Не учи ученого, – рычу я ему, не глядя вслед. Я уже второй час копошусь под капотом. Мой взор прикован к карбюратору. Мое сознание отуманено жизненным опытом.
– Ну-ну... Некогда мне, картошка у меня на плите подгорает. Да без меня ты, все равно, с места не сдвинешься.
Просветленный не покидает тебя даже, когда уходит прочь. Узнать его легко, надо только быть внимательным. Он возвращается. От него исходит аромат жареного лука.
– Ключи на 8 и 12, – говорит он как имеющий власть. И я не споря протягиваю ему их. Мой взор прикован к трамблеру в его руках. Мое сознание не может вместить того, как можно чинить устройство, не касаясь его пальцами. Я заворожен тем, как сами собой вращаются винтики, гаечки, молоточек, наковаленка, и увидев, как он смотрит не щурясь сквозь зазор на солнце, начинаю понимать, что передо мной истинный просветленный.
– Ну дальше ты и сам справишься, – говорит он мне, возвращая ключи.
– Как вас зовут? – тихо спрашиваю я его.
– Я – Слава, – отвечает он.
В моем детстве почти каждое утро начиналось с одной и той же перепалки:
– Возьми ложку и ешь правильно! – мама всегда видит, что делает сын, даже если стоит к нему спиной, а к плите руками. – Все дети как люди, один ты как Василий Иванович, – продолжала она, то ли ворчать, то ли жаловаться.
Василий Иванович, действительно, был почти не человек, он был почти Чапаев – он был дедушка. Я помню хитроватый блеск в его глазах и улыбку под усами, с которой он уходил от моих расспросов про Дар. Еще в юности, отбывая воинскую повинность в кавалерии, он обнаружил его в себе. Папа говорил, что дедушку ударило молнией, мама шептала в ответ, что его лошадь хвостом обмахнула спросонок, но способность никто под сомнение не ставил. Да и как можно было не верить собственным глазам. В очевидность невозможного поверил даже гражданин начальник, следователь по особым делам НКВД Борщевик, и скостил пару лет из неположенных. Урки, ценившие дедушку, отдавали ему лишнюю миску чужой баланды, чтоб еще и еще раз поглазеть на чудачка. Товарищ Хрущев, когда ему 59-м в Днепропетровске показали Василия Ивановича, хотел сам попробовать, но не получилось у него, не получилось даже с 6-й, даже с 7-й попытки. Вольф Мессинг послал его к Эмилю Кио, Эмиль Кио послал его к академику Лурии, но дедушка поехал к бабушке, так и не открыв советской науке свой секрет. Бабушка его любила, не смотря ни на что; а дар поначалу ее смешил как щекотка, со временем же она к нему привыкла и почти не замечала.
Только маму он почему-то раздражал. В школе она слышала, что генетика передает рецессивные признаки через поколение, но не думала, что жизненная практика подтвердит именно этот параграф из учебника. Тем более, на ее муже дар, как и положено, передохнул. Папа же считал, что лучше бы ему по наследству достался он, а не кавалерийская походка, за которую с детства его дразнили чапаевцем.
– Пусть ребенок ест, как ему нравится. Вырастет, сам научится за собой следить, – возражал он автоматически, монотонным голосом, глядя на меня сквозь газету. – С возрастом пройдет. Будет он человеком, как и все.
Папа, как обычно, был неправ. Мама ему это всегда неопровержимо доказывала. Человек из меня получился по образу и подобию дедушки, и надеюсь, не только в том, что я умею, как и он, есть суп вилкой, даже самый жидкий, даже бульон, даже до последней капли.
Мне никогда не хватало решимости взглянуть ей прямо в глаза: ни тогда, ни сейчас. Я любовался ими украдкой, когда она задумчиво сидела, перебирая в руке жемчужные бусы, и мгновенно отводил взгляд, как только она замечала, что я смотрю на нее.
Она любила эти бусы, прабабушкин жемчуг. Ему было уже наверно лет сто, и не смотря на возраст он почему-то оставался белоснежным. Мама подарила их ей на День конфирмации. Вернувшись из церкви юная, счастливая, в белом платье она примеряла их перед зеркалом, рассматривала, в первый раз пересчитывала.
Как-то я смеясь спросил ее:
– Что ты все время его считаешь? Надеешься, что однажды станет на одну бусину больше?
– Не надеюсь, а верю, – ответила она
Жемчуг лучше всего смотрится на черном, а темные цвета были ей к лицу. Ей не нужно было себя стройнить, она просто любила это черное закрытое платье. Мне тогда казалось, что надевая его, она пыталась прибавить себе строгости, что-то скрыть от нескромных взглядов. Теперь же я понимаю, что ей нравился этот жемчуг; а платье к нему шло: он как-то по-особенному смотрелся, светился на нем.
Я никогда не забуду тот день, наш вязкий затянувшийся спор. В какой-то момент она замолчала. Глядя куда-то в угол, вниз, в сторону, она нервно перебирала пальцами бусы. Словно судорога дернула ее руку. Нитка лопнула. Белые шарики сорвались с ее плеч, с груди. Я зачарованно наблюдал, как они скатывались по платью, слетали с колен. Как августовский град сыпались жемчужины и прыгая разбегались по полу. В растерянности она подняла голову и взглянула на меня в последний раз. Я не отвел взгляда, мы смотрели глаза в глаза и не видели друг друга.
Говорят, старый жемчуг со временем желтеет. Интересно, изменил ли он свой цвет теперь, когда прошло еще полвека?
Я стою в стороне, в углу и считаю жемчужины на портрете. Я считаю их каждый раз, когда прихожу встретиться с ней в галерее. Я верю, что однажды насчитаю на одну бусину больше и тогда я впервые осмелюсь посмотреть ей прямо в глаза.
Надо бы написать письмо другу моему Андрею. Давно собирался. Андрей говорит, что он до Англии быстрее добирается, чем я до чернильницы. Но он не прав: вот она чернильница на столе у окна. А за окном курочки. Агафья Матвевна им сутра пшена насыпала. Но они не столько клюют, сколько бранятся, и петуху нашему Султану барынь своих не угомонить.
Так вот, сижу у окна, а курочки все кудахчут и квохчут. И думается мне, что понимаю, чем они так озабочены, курочки. И Захар, мучитель мой, мне бумагу принес, и перо даже очинил.
Так вот сижу у окна, и пирожки теплые ем, Агафья Матвевна успела напечь. А бумагу пока в сторону отложил, чтоб начинкой случайно не закапать. За курочками наблюдаю, пока слова у меня в голове в строчки складываются. Нельзя забыть, что Андрею написать собирался. И Султан на меня с подозрением смотрит левым глазом.
Так вот, сижу у окна, а уже и стемнело. А маменька еще в детстве строго настрого мне завещала глаза беречь, и при свечке не писать. Да и курочек давно уже не видно: спят, наверно. И Султан с ними, несомненно – он верный и заботливый. Завтра надо Андрею письмо написать, и про курочек не забыть вставить. Не успел как-то сегодня.
– А забавный я сон видел, Агафья Матвевна, будто бегу я ребенком по липовой аллее, той что в Обломовке, за кроликом, серым таким, с черными ушами и хвостиком. Бегу, уже пару раз падал, а все догнать хочу.
– Упасть это к долгам. И сколько раз упали, столько денег в долг и просить будете, – стирая невидимую пыль с буфета, отвечала, Агафья Матвеевна. – Сколько раз вы падали, Илья Ильич?
– Не упомню... раза два или три. Да не важно это. Я еще не окончил. Так вот, бегу я за кроликом, а он от меня, и кажется, что вот-вот...
– Нет, и не скажите, Илья Ильич, сколько раз падали – это нужно вспомнить. Вам приказчик ваш из деревни, сколько денег прислал? Вдруг не хватит, вот и придется одалживать. А ростовщик еще и процент заломит.
– Да откуда же я знаю, сколько. Посмотрите сами в бюро. Я вам, Агафья Матвеевна про сон досказать хочу, а вы все про деньги. А я забуду. Я ведь бегу, бегу...
– Нечего тут, барин, досказывать: не догнали вы его, – Не выдержал в углу Захар. – Лучше Агафью Матвеевну послушайте: она хоть и баба, а понимает.
– А ты, мучитель мой, лучше молчи! Догнал я его, Агафья Матвеевна.
– Не догнали, барин. Мне лучше знать. Вам вообще и таракана не догнать – меня покличите. А зайца и подавно.
– Замолчи, Ирод! Еще слово, и я тебя в Обломовку сгоню! Агафья Матвеевна, догнал я его у забора.
– Забор это к доброму, Илья Ильич. Если, особенно, вы на него забрались, то это к одолению забот. Значит, все-таки денег хватит.
– Да не залезал я на него.
– Значит, не хватит.
– Да не про деньги я, а про кролика. Я его у забора поймал.
– Кролик – это к положительному обороту в денежных делах. Это, если вы его поймали. Но Захар говорит, что не поймали; а раз он говорит, значит знает.
– Как же мне его не знать, Агафья Матвевна, зайца этого. Его Ганс Федорович, дядюшка барина Андрея Ивановича, на именины барину в детстве подарил. Изрядный он был такой немец, Ганс Федорович, маститый и изысканный. А потом он сбежал, и не поймал его маленький барин.
– Нет, поймал! Может быть, я его тогда не поймал, а сейчас поймал!
– Нет уж, барин, вы и не спорьте: если вы ребенком его не поймали, то нынче, на диване лежа, вам и вовек его не поймать. «Утучнели вы зело», как вам давеча отец Илий говорил.
– А, может, и поймал он его. Ты, Захар, дурак, и на барина всегда наговариваешь. А нам деньги нужны, – выходя из комнаты, заключила спор Агафья Матвеевна.
– Вот и маменька моя всегда говорила, что Захар дурак. И еще Ирод. И права была моя маменька, – бормотал, уже засыпая, Илья Ильич, – истинный смысл сна можно понять, только увидев следующий сон, – и он отправился на поиски разгадки.