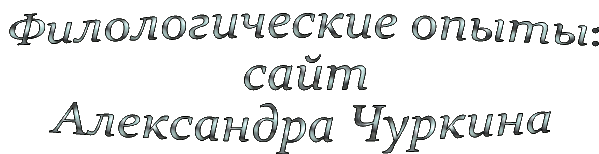В науке существует два типа исследований. К первому относятся фундаментальные, раскрывающие главные тайны вселенной и жизни, о которых так писал Эйнштейн в своем письме к Эстер Саламан: «Я хочу знать, как Бог сотворил этот мир. Мне не интересен этот или иной феномен, спектр того или другого элемента. Это все детали». Познавать замысел Бога – великая цель, достойная гения. Ученые-естественники за последние столетия раскрыли много тайн вселенной. Гуманитарии, в свою очередь, любят второстепенные детали, завораживаются ими. Так и меня заинтересовал вопрос, к кому обращено было письмо с такими словами, кто такая Эстер Саламан? Я отправился на поиски, и результат оказался очень увлекательным.
История человеческой жизни – объект для исследования не менее захватывающий, чем далекие галактики. Я узнал о человеке достойном стать героем романа-бестселлера.
Эстер Поляновская-Саламан (Esther Polianowsky Salaman) – человек необычайно разнообразных талантов: физик, писатель переводчик, литературовед, психолог. Биография ее насыщена событиями: опасными приключениями, знакомствами с выдающимися современниками, занятиями наукой и литературным творчеством.
Родилась Эстер в 1900 в Житомире. В то время это был провинциальный тихий город в Российской империи. С детства ее привлекала наука. Вопреки воле отца, религиозного иудея, считавшего, что женщинам образование противопоказано, она поступила в Киевский университет. Революция и гражданская война разрушили ее планы. Спасаясь от этих катаклизмов, она переселяется в Палестину, а затем едет в Германии. Оттуда она снова возвращается через фронты гражданской войны домой, чтоб вывести мать в Европу. В Берлине она тесно общалась с Эйнштейном, а затем по его рекомендации переехала в Лондон и работала в лаборатории Резерфорда. В Англии она прожила всю свою оставшуюся жизнь. Скончалась она в 1995 году. Ровесница века, она лишь 5 лет не дожила до его конца.
В Англии началась и ее литературная деятельность. В 1943 году, в самый разгар войны, она совместно с Френсис Конфорнд издает антологию классической русской поэзии. Воспоминания юности легли в основу двух романов, написанных ей: «Серебряный рубль» и «Плодородная почва». Работа над этими книгами, приобретенный ей опыт литературного творчества оказались полезными для ее новой научной работы.
Тем не менее, главной сферой занятий Эстер Саламан оказалась совсем не физика. В 60-е годы ее занимают проблемы памяти и психология творчества. Наша память не просто хранилище впечатлений: она глубоко влияет на наше поведение и принятие решений. Более того, отчасти она предопределяет наше будущее. Исследования Эстер Саламан были посвящены этим особенностям нашей памяти. Русская и классическая европейская литература дают ей материал для этих исследований. Результатом их становятся две обширные монографии. «Она была пионером в исследовании автобиографической памяти, которая написала многое о спонтанных воспоминаниях в эссе сочетающих как собственный опыт непроизвольных воспоминаний, так и его отражение в творчестве писателей», – пишет о ней современный исследователь Дж. Мейс. Изданные 40 лет назад работы Эстер Саламан до сих пор сохраняют научную ценность.
Книги Эстер Саламан посвящены проблеме того, как личные воспоминания становятся предметом литературы. Обращение писателя к своему прошлому, особенно воспоминания о детстве, и попытка рассказать о нем на страницах своего произведения является сложным процессом. Человеческая память не линейна, а воспоминания часто носят спонтанный характер. В процессе припоминания внезапное появление в сознании событий, давно преданных забвению, оказывает влияние и на личность автора, и на замысел, сюжет и другие аспекты его произведений. Эстер Саламан исследует особенности и закономерности психологии памяти на примере как русских писателей (С. Т. Аксакова, Герцена и Толстого), так и зарубежных (Де Квинси и Пруста). Их произведения в сочетании с собственным писательским опытом дали Эстер Саламан материал для исследований. Она писала: «Я проводила исследования природы памяти основываясь на погружении в воспоминания как собственные, так и этих писателей. Я изучала разницу в воспоминаниях об отдельных событиях и памятью о рутине повседневной жизни».
Читая эти ее исследования, я размышлял о том, как личная судьба Эстер отразилась на ее научных взглядах. Опыт, который она получила, работая над своими романами, открыл ей доступ во внутренний мир писателей. Это же помогло ей взглянуть и на на свои жизнь и мышление, что дало ключ к пониманию процессов памяти в целом. В результате она делает выводы об универсальности процессов творчества и о памяти как фундаменте культуры.
Почему она физике предпочла литературоведение и психологию? Эти отрасли знания оперируют явлениями зачастую очень эфимерными. Я полагаю, что важным фактором повлиявшим на смену ее научных занятий стали впечатления ее юности. Их напряжение и яркость контрастировали с «тихой» жизнью в Англии. Они будили ее сознание и требовали творческого осмысления. Ее литературное творчество стало первым ответом на прорывы этих непроизвольных воспоминаний, исследование психологии памяти стало вторым. Я не ручаюсь за верность своей гипотезы, но она по крайней мере укладывается в теорию, которую разрабатывала сама Эстер Саламан.
И естественная, и гуманитарная наука стремятся к объективности. Но любой ученый – человек и ничто человеческое ему не чуждо. Изучаем ли мы как Эйнштейн универсальные законы вселенной, или как его ученица Саламан – мимолётные воспоминания писателей, мы по своему пытаемся прочесть мысли Бога о нас самих, решаем проблему своего места в мире.
Эссе о мате, мозге и интеллигентности
Есть такой медицинский феномен, известный всем невропатологам, да и вообще любому, кто в жизни сталкивался с больными инсультом. При поражении левого полушария мозга парализуется правая сторона, рука, нога и кроме того больной начинает много материться. Все объяснятся просто: разные функции речи у человека распределены по разным полушариям, и мат находится в правом. Он находится в тех же отделах мозга, в которых кроме него хранятся и другие устойчивые словосочетания, междометия, а также та часть языка, которая тесно связана с эмоциональной сферой человека.
Итак, мат нейрофизиологически связан с правым полушарием мозга, но отнюдь не весь мат, а лишь пара десятков (hic!!) наиболее устойчивых слов и словосочетаний. Мы произносим их, когда роняем на ногу утюг, слышим их, проходя мимо стройки. Это тот мат, в котором не важно смысловое значение произносимого слова. На первый план в нем выходят интонация, модальность, эмоциональная насыщенность. Поэтому его же можно услышать и в драке, и из уст раненого солдата, и в момент оргазма. Этот мат – голос глубинных отделов нашей психики. Он не просто эмоционален – он архаично эмоционален, и поэтому кроме прочего на нем разговаривает инстинкт самосохранения и агрессия. С точки зрения языка он входит в общеславянский фонд нашей речи, и без перевода понятен русскому, сербу и чеху. Более того, за столетия своего развития он практически не изменился и не расширил своего состава.
Хочу отметить еще одну особенность «правополушарного» мата: связанный с эмоциональной сферой личности, он принципиально устный. Его можно услышать, произнести, но нельзя прочитать ни в одной книге, ни в блогерском комменте, исключение составляет, разве что надпись на заборе. Это парадокс, и не спешите с ним спорить.
Есть еще один медицинский феномен: люди с поражением правого полушария мозга тоже умеют материться. Казалась бы, раз поражена часть мозга, в которой хранятся эти слова, то больной человек должен перестать их использовать, забыть их. Но этого не происходит. В левом полушарии мозга тоже есть место мату. Да еще какое! Здесь хранится мат «окультуренный». Он принципиально отличается от своего «правополушарного» дубликата, хотя и содержит формально в себе весь словарный запас последнего. Именно его мы слышим в анекдотах, читаем в стихах Баркова и, иногда, встречаем у Венечки и Юза Алешковского. Это мат карнавала – его эмоциональная стихия не агрессия, а смех. А кроме того это мат обнаженной сексуальности – мат, в котором важен прежде всего смысл произносимого или читаемого слова. Он чрезвычайно разнообразен: его академический словарь состоит из десятка томов. Этот мат живет и развивается, его словарный запас постоянно пополняется все новыми и новыми выражениями.
Табу – движущая сила культуры. Культурные запреты, при их кажущейся глупости и назойливости необходимы для ее развития. На стыке разрешенного и запретного всегда создается мощное энергетическое поле, и чем сильнее запреты, тем это поле мощнее. Не удивительно, что одна из самых напряженных точек культуры сформировалась вокруг проблемы мата. Произошло это вполне закономерно. Одной из важнейших функций культуры является контроль психической деятельности человека. Можно сказать, что культура родилась, как попытка что-то противопоставить неуправляемости психических процессов. И в этом отношении приоритетными направлениями ее борьбы неминуемо должны были стать две такие мощнейшие психические силы как сексуальность и агрессия, а следовательно, и их общий язык – мат.
Культурный человек не должен материться. Это истина, которую мы знаем с детства. Она неоспорима. Одним из базовых столпов воспитания является борьба с детским матом. И цель ее не в том, чтоб человек не выучил случайно запретные слова: задача ее – обучить ребенка контролировать свою психику. Культура речевого поведения не самоцель, а метод обучения самоконтролю. Однако любая палка имеет два конца, и если метод становится самодовлеющим, если он становится доминирующим в воспитании, то из инструмента культуры он становится своей противоположностью, он встраивается в психику и становится психическим комплексом. Постепенно развиваясь по принципу «доминанты», он становится активным психическим процессом направленным на «торможение», и вступает в конфликт с культурой, но уже совсем по другому фронту.
Феномен «интеллигентного» мата, коренится именно в выше описанном перекосе воспитания. Базовыми процессами высшей нервной действительности являются возбуждение и торможение. Идеальным их состоянием является равновесие. Идеальным, но недостижимым: задавленные, с одной стороны, культурой, а с другой – собственной тормозящей психикой, сексуальность и агрессия рано или поздно обретают свой голос; и мы знаем, какими словами они начинают говорить. Мат интеллигентного человека, порожденный вышеописанной болезненной ситуацией, естественно будет специфичен. Главными его признаками являются: инфантильность и истеричность. Истеричность в данном случае понятна: истерика всегда возникает из желания подавленной психики заявить о своем неблагополучном состоянии. А корни этого неблагополучия уходят в проблемы детского и подросткового периода, отсюда – инфантильность. Но наверстывая упущенное, заявляя о своем подавленном «я», интеллигентный человек не может отречься, стереть свое «культурное» воспитание, и заимствует свой матерный лексикон он, естественно, из «окультуренного» матерного словарного запаса левого полушария головного мозга. Получается парадоксальная ситуация: человек кричит от душевной боли, а использует слова рожденные стихией смеха. Поэтому так трудно интеллигенту выбрать правильную интонацию, при использовании мата, не впасть в пошлость или грубость.
И в конце упомяну еще об одной разновидности мата – «мате власти». Мы слышим его из уст начальников разного уровня, он звучит на зоне и в армии. Это интересный феномен, который заслуживает особого рассмотрения. Скажу лишь, что в сущности своей он антипод мата «интеллигентского», механизм его состоит в том, что «правополушарный» мат агрессии и подавления пытается надеть на себя культурную «левополушарную» маску. Это проявляется через стремление разнообразить его формы: строить этажи, употреблять причудливые сочетания. Другой его характерной особенностью является усиленный акцент на агрессивно гомосексуальных мотивах. Впрочем это могло бы стать темой отдельного эссе.
Русское искусство и чувство современности
В 2014 году С.-Петербург стал местом проведения «Манифесты». Это биеннале современного искусства, которая ранее проходила во многих городах Европы. Первая «Манифеста» состоялась в Нидерландах, в Роттердаме в 1996. С тех пор она кочует по разным городам Европы: Люксембург, Любляна, Франкфурт. Петербург стал десятым городом, где она проводилась.
Это событие заставило меня еще раз задуматься о парадоксах русского искусства. Главным из них, наверно, является отсутствие «чувства современности». Наша культура живет с головой повернутой назад. Мы гордимся средневековой архитектурой и иконописью, писателями и композиторами XIX века. Толстой, Достоевский и Чайковский – наши бренды. Но современного искусства как явления массового сознания у нас нет. Ни один из актуальных художников после 30-х годов XX века не стал у нас фигурой знакомой массовому зрителю, тем более поп-звездой. Не было у нас Дали или Уорхола советского ли российского разлива. Интерес к современному искусству – удел узкого круга специалистов: художников, искусствоведов и галеристов.
Я думаю, корень проблемы лежит в особенности нашего восприятия еще одного нашего бренда – русского авангарда. 20-е и 30-е годы прошлого столетия было временем, когда концепция современности стала предметом художественного творчества. Многие русские художники активно пытались ее осмыслить. Сталинизм и II Мировая война прервали этот процесс. Стрелки часов нашей культуры как бы остановились и современное искусство для нас продолжает ассоциироваться с Малевичем и Кандинским. Надо сказать, что изобразительное искусство в этом отношении отличается от театра, кинематографа, музыки и литературы, где такого разрыва не произошло.
Поначалу казалось, что достаточно просто адаптировать к нашей культуре стили и жанры, возникшие на западе за последние столетие. Когда-то Петр Великий подобным образом пересаживал в нашу почву дерево европейской культуры. Но кажется, пока этот рецепт не достаточно эффективен. Пересаженное не приживается. Актуальное искусство не воспринимается, как отражающее дух настоящего времени.
Участники «Манифесты» пытались не только продемонстрировать современное искусство, но и восстановить прерванные связи с традицией русского авангарда. Думаю, что им удалось возродить интерес к актуальному искусству, по крайней мере у петербургской публики. Но можно ли снова запустить остановившиеся часы? Может ли искусство возродить в общественном сознании чувство современности? На эти вопросы даст ответ только время.
Фотография Ялтинской конференции 1945-го года: три лидера
В мировой истории редко происходили события, которые определяли бы жизнь большей части земного шара надолго вперед. Такими, например, были рождение мировых религий, географические открытия или дипломатические конференции по окончании мировых войн. Фотография способна создать ощущение присутствия при таком событии, главное выбрать наименее официальную. Меня давно интересует вопрос, что чувствуют, что думают политики, от слов и действий которых во многом зависят судьбы миллионов? Это одно из немногих изображений, где Сталин, Черчилль и Рузвельт выглядят обычными людьми, без маски на лице, скрывающей их эмоции. Мне хотелось бы взглянуть на это фото глазами невежды, отвлекаясь от всего, что я читал и слышал – может быть мне удастся подслушать мысли трех лидеров в этот исторический момент.
Три пожилых джентльмена сидят в креслах и явно собираются позировать перед фотоаппаратом. Но это не селфи после вечеринки или соревнований по покеру. Кругом стоят серьезные мужчины в официальных костюмах. Однако еще есть время, и не обязательно принимать соответствующее выражение лица.
Три пожилых джентльмена тепло одеты. Мужчина в центре в накидке, те что по бокам в шинелях. Прохладно в небольшом внутреннем мавританском дворике. Стоящие на заднем плане, наоборот, одеты в костюмы. Есть ощущение, что они ненадолго вышли на улицу из кабинета, где шла оживленная дискуссия. Скромная атмосфера санатория пенсионеров. Ничто не напоминает о том, что это бывший царский дворец.
Пожилой джентльмен в британской шинели беседует о чем-то со стоящим позади джентльменом в костюме. О чем они говорят? Что это за облачко перед лицом пожилого джентльмена? Может быть дыхание превращается в пар на морозе? Скорей всего, это дым сигары, которую он держит в руке. Пожилой джентльмен в накидке прислушивается к беседе, а, возможно, что-то рассматривает. Пожилой джентльмен в фуражке и шинели задумчив. О чем он думает? Глядя на эту скромную черно-белую фотографию, я тщетно пытаюсь проникнуть в его мысли. Думает ли он о чем-то великом, или о личном, или просто от усталости плывет в потоке сознания?
Фотография не может дать мне ответа на эти вопросы. Трудно понять подоплеку исторического события, глядя только на картинку. Нужно изучать документы, свидетельства очевидцев. И даже тогда все ответы не могут быть найдены. Прошлое – лучший хранитель личных секретов.
Я знаю из книг, что эти три пожилых джентльмена в заполненном людьми дворике, «три короля» – фул-хауз, который побил все другие комбинации карт. Я вижу на картинке момент, когда они только что поделили земной шар на ломтики. Важная работа окончена и теперь осталось лишь запечатлеть это историческое событие на фото. Ялтинская конференция подходит к концу. Кончается Вторая мировая война. Мужчины в официальных костюмах понимают важность момента.
Молодой офицер привлекает мое внимание, отвлекая от этого важного для мировой истории события. Наверно, он офицер охраны или сотрудник штаба. Он один из тех чья судьба решалась внутри стен Левадийского дворца, один из сотен тысяч таких же молодых людей, в такой же военной форме, которые находятся на фронте и ждут, что решат эти три лидера. Молодой человек смущен. Он стоит сбоку, стараясь не попасть в кадр, растерянно глядя то ли в сторону, то ли в будущее.
Давным давно фильм «Андрей Рублев» заставил задуматься целое поколение русской интеллигенции о ключевом вопросе русской истории: о месте веры в человеческой жизни. Странный вопрос по тем временам, да и по нашим тоже. С одной стороны, мы привыкли, что история – это контурная карта, на которой показано стрелочками, куда, в каком направлении движутся народы, руководимые своими вождями. С другой стороны, то, что история это еще и дом, в котором живут люди; и эти люди любят, ненавидят, радуются, плачут и верят – идея довольно банальная. И ни кто бы не заметил ничего особенного в «Андрее Рублеве», если бы не странный эффект: увиденная среди прочих человеческих чувств вера, оказалась не орудием угнетения темных масс, не личным мировоззрением, а движущей силой культуры. Загадочная сила свойственна кинематографу: бывает, что фильм обнаруживает самостоятельно такие идеи, которые авторы совсем не планировали в него заложить. «Царь» Павла Лунгина в этом отношении является прямым продолжением «Андрея Рублева» Тарковского, как с точки зрения темы, так и по этой способности приобретать неожиданные смыслы. Только вот ровно 40 лет понадобилось русской культуре, чтоб предпринять вторую попытку осмысления вопроса веры. Нетороплива наша духовность.
Лунгин, правда, будучи человеком скромным, не стал пытаться объять необъятного и резко сузил круг тем, затрагиваемых в фильме, поставив в центр актуальную именно сейчас проблему конфликта власти и веры, а если уж быть совсем точным – власти и неверия. Честно скажу, не ожидал я того впечатления, которое произвел на меня этот фильм. Что я мог бы увидеть нового? Исторические события, которые легли в основу фильма, мне хорошо знакомы, споры об Иване грозном уже навязли на зубах. Я ждал что-то в духе современной эпохи, этакого «неоклерикаризма», будь он неладен, фильма о взаимоотношениях двух святых. Кстати, я не оговорился: митрополит Филипп, официально канонизирован Православной Церквью; а царь Иоанн Васильевич Грозный – как бы современные богословы не смущались этим фактом – вплоть до революции был очень почитаемым простым народом «местночтимым» московским святым, заступником за несправедливо обиженных властями (Hic!). Итак, я настроился на фильм о святых – а увидел фильм о безбожии. Да еще какой! Весь советский научный атеизм, вся критика мракобесия, построенная на обличении пьяных попов и психиатрическом развенчании чудес, померкли в моих глазах. Безбожие взглянуло на меня с экрана. Я смотрел в бездну, а бездна смотрела в меня.
Яркие эпизоды с монологами и диалогами о Боге, со скрытыми и прямыми цитатами из Священного Писания, сам исторический фон позднего русского средневековья, эпохи по определению религиозной, напряженно верующей, – чего еще, казалось бы, нужно для фильма, пропагандирующего веру, разъясняющего ее глубинные основы нашему непросвещенному разуму? Предыдущий фильм Лунгина «Остров» тоже настраивал на ожидание православной сказки. А тут – как обухом по голове: все атрибуты религии есть, а веры нет. Я поначалу возложил вину на Янковского. Митрополит Филипп в его исполнении – отголосок Андрея Рублева в интерпретации Тарковского: мятущийся мягкотелый интеллигент шестидесятник. Однако фильм держится не на нем, а на Мамонове, играющем царя Иоанна Васильевича: тут и экспрессия, и православный типаж. Он как будто сошел со страницы жития какого-то юродивого, и всей внешностью свидетельствует о безудержной в своей непредсказуемости интерпретации христианства, свойственной русскому народу. Мамонов, как мне кажется, после фильма «Остров» стал, образцовым святым, ходячим иконой, идеалом нашей веры. Тут бы Лунгину и остановиться, но после фильма «Царь» Мамонов стал еще и ходячей Библией.
Лучшие эпизоды фильма, как правило, построены на перекличке с библейскими текстами. Когда-то русские интеллигенты черпали свои первые познания о Евангелии из «Мастера и Маргариты»; заинтересуйся они им сейчас, я бы посоветовал в качестве пособия фильм «Царь». В нем практически непрерывным потоком идут скрытые и явные цитаты из Священного писания, из Псалтыри и Нового завета. Цитировать священный текст совсем не обязательно дословно: достаточно передать дух события. Так, хотя нет впрямую ни одного слова взятого из Евангелия в разговоре царя с Варлаамом (Охлобыстиным) на мосту, но сомнения нет – история об искушении Христа в пустыни проглядывает сквозь этот эпизод. Однако ключевая книга для понимания той эпохи, личности Ивана Грозного, а следовательно и фильма – Апокалипсис. По всей картине разбросаны и прямые цитаты из него, и скрытые. Есть даже своеобразное толкование на эту книгу, которое звучит в разговоре Царя с девочкой, когда он объясняет ей, как будет выглядеть Спасенный град Иерусалим. Вот уж воистину ничего иного не скажешь – это апокалиптичный фильм.
Узнаваемость эпизода – залог его правильного понимания. Библия – основа христианства, и всей нашей европейской культуры. Даже те, кто не читали ее специально, способны узнать скрытые цитаты, в том числе и тогда, когда слова библейских персонажей вкладываются в уста персонажей исторических. Прием этот обычный, однако очень рискованный. Попытка спроецировать на себя эпизоды из Священного Писания, изобразить себя в роли его персонажа, невольно выворачивается самым непредсказуемым образом. В эпизоде в патриаршем саду, когда царь приходит обличить воевод, он пытается изобразить себя Христом, который указывал на Иуду словами: «Омочивший хлеб со мной в солило, тот предаст меня». Но при этом хлеб макают в мед не те, кто якобы предали, а сам царь, тем самым невольно указывая именно себя как на Иуду. Да и правда, не похож киношный Иван Грозный на Христа – так же как и святитель Филипп – хоть и пытается Лунгин провести такую аналогию, в эпизоде посещения опального митрополита царем и Малютой Скуратовым. Завуалированная цитата из Евангелия есть, слова Господа слышатся, а образа Его нет. И, вообще, нет в фильме Бога, как действующего лица, как персонажа. Главным отличием фильма религиозного от безбожного, является Его присутствие, прямое или опосредованное участие в сюжете. И говоря о Боге как персонаже, конечно, я имею в виду не актера Безрукова в роли Христа. У Бога есть много способов дать знать о своем присутствии человеку вполне обычными средствами, без всяких видений и театральщины.
Любой верующий знает, что вера, а не формальное исповедание, начинается с момента, когда человек ощутит в своей жизни присутствие кого-то еще, личности, которую не видят глаза, но присутствие которой несомненно для сердца, личности, с которой устанавливаются особые взаимоотношения. В основе этих отношений лежит разговор, реальный диалог, когда ты спрашиваешь, а Бог отвечает, и наоборот, Он спрашивает, а ты отвечаешь. Неоспоримым достоинством этого фильма является то, что в нем необыкновенно ярко показано, как происходит этот диалог. Иван Грозный почти непрерывно разговаривает с Богом, задает ему вопросы, просит. Уже первый эпизод фильма заканчивается его прямыми словами обращенными к Богу: «Дай знак, Господи, что любишь Ты меня, что не оставил Ты меня. Дай знамение» И весь дальнейший фильм, по сути дела, это непрестанное повторение этого вопроса. Мамонов постоянно по ходу фильма как бы вслушивается, а не отвечает ли ему Бог. Чем бы он ни занимался, о чем бы ни говорил сама манера речи, взгляд, периодически обращаемый внутрь себя, говорят об этом напряженном, почти маниакальном ожидании ответа от Бога. Только результат всегда один и тот же: Бог молчит.
Удивила меня, и даже по-настоящему поразила, сюжетная линия фильма, связанная с девочкой. Со свойственным мне предубеждением, я сразу настроился на ожидание чуда, и даже пытался его предугадать, вглядываясь в икону с целью узнать, какая она. Мне казалось, что это Божия Матерь Страстная. Я ошибся, но это не важно. Тем временем, чудеса действительно начались. Вот девочка пускает икону по воде, и та легким касанием обрушивает мост, на котором идет сражение. Настоящее чудо, и сердце играет, и как-то забывается, что опоры моста были уже подрублены и он вполне мог рухнуть и сам по себе. А вот другое чудо, уже не оставляющее сомнений. Девочка рассказывает Государю о том, как в лесу напал на нее медведь, но явилась Матушка Богородица и защитила ее от зверя, и, более того, обещала и впредь от «мишек» оберегать. Не мог ребенок ошибиться, дети не галлюцинируют. В кинематографе есть свои непреложные законы, и этот мистический и сентиментальный рассказ должен был стать прологом, к кульминационному моменту фильма. На площади перед дворцом разыгрывается суд Божий – суд, который скорее напоминает картинку из жития христианских мучеников, растерзанных зверями на песке Колизея, или из экранизацию романа «Камо грядеши?». Страшный зверь готов разорвать боярина и девочка, помня об обещании, данном Матерью Божией, бросается с иконой наперерез медведю... Обманула Богородица девочку.
Шепчет Царь молитвы, а Бог не отзывается, никак себя не проявляет; Господь молчит, а вот покойники говорят. Чем не чудо, когда мертвые обретают дар речи? Митька Курбатов приходит ночью к Царю, обличает его в том, что казнил он его, прежде чем боярин предал своего Государя. Бурный диалог завязывается в одной из самых эмоциональных сцен всего фильма, и очень показательный диалог, поскольку Царь разговаривает и за себя, и за того парня. Что это? Сумасшествие? Или такая форма спиритизма, когда дух покойника говорит через медиума? Или все-таки Иван Грозный сам с собой разговаривает? Мамонов так мастерски играет эту сцену, что только и остается гадать о природе этого диалога. А раз нет ясности – нет и веры в то, что точно слышен голос с того света. Чудо опять сомнительное выходит.
Истинный христианин должен радоваться всегда и везде. Истинный православный помнит, что Христос никогда не смеялся. Но как-то не хочется следовать ни тому, ни другому правилу. Радоваться нечему, а хмурым быть зазорно. Остается один выход – веселиться. Веселье, вообще, странное понятие: радоваться веселому человеку, не обязательно, ну а печалиться ему по определению невозможно. Очень наше это слово, и в нем сокрыт дух того, как мы понимаем православие – веру, от которой мы не ждем радости. В этом отношении очень показателен финал фильма: звонарь бьет в колокол и призывает народ: «Выходи на государево веселье!». Народ не отзывается. Так попытка создать прообраз Царства Небесного на земле натолкнулась на неожиданные препятствия: некому веселиться, одни убиты, другие боятся. Ночь, зимняя стужа, царь сидит один. Мрак, отчаяние и одиночество. И опять диалог, обращенный в пустоту: «Где мой народ? Боже милостив буди мне грешному!». Бог продолжает молчать, как будто Его нет. Чудо не происходит, «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». История рассказанная Лунгиным, кажется, не оставляет места надежде и вере. Хотя, кто знает, как сложится судьба этого фильма? Часто случается, что, лучшая пропаганда веры – это ее дискредитация.
Памяти предстоятеля стольного града Москвы
Сегодня скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Упокой его, Господи! Поначалу, я думал что-нибудь написать о нем, но что я мог бы рассказать, что вспомнить? Я и видел-то его только один раз на службе в Исаакиевском соборе.
А вот три дня назад Церковь чтила память другого архиерея, его дальнего предшественника на кафедре – митрополита Московского Филарета Дроздова. Жил он в первой половине XIX века, в царствование императоров Александра I и Николая I. Здесь я уже могу что-то сказать, хотя бы с позиции филолога или историка.
Для меня это очень загадочная личность, противоречивая и притягательная в этой своей неоднозначности. А кто из нас не прост? В конце концов, все мы состоим из души и тела: двух несочетаемых начал, которые сосуществуют в нас то в борьбе, то в мире. Так и Церковь, в той ее части, которая здесь и сейчас, состоит из живых людей, также двуедина в своей природе: сердцем обращена к небу, а телом бредет по земле. Куда она бредет? Кто ее ведет? В учебнике догматики написано, что глава Церкви – Христос. А по-человечески, у нас в России всякий знает: глава ее – архиерей города Москвы. И тяжело бремя, которое ему суждено нести на своих плечах, вне зависимости от того, как его звали и в какую эпоху он жил.
А жизнь ему Господь судил прожить долгую и сложную. Многое он повидал на своем веку, впрочем, как и все его сверстники. Юность – в либеральной стране, конечно по меркам того времени. Нашествие «двунадесяти язык». Оттепель с иллюзией свободы. Гвардейские полки на площади. Мороз застоя. Строительство властной вертикали. Он был во многом похож на государя, на время правления которого пришлись последние годы его жизни, и мог бы с чистой совестью повторить слова императора Николая I, что он чувствовал себя: «рабом на галерах». Но кто знает, что было у него на сердце, когда он писал слова «Манифеста о свободе крестьян», или когда гнал «раскольников», отбирал, «печатал» их храмы?
Страшно бремя власти. Приходилось ему быть и орудием казни: несправедливо карать, ссылать в заточение, иногда, по сути дела на смерть. Трудно нам простым людям судить человека, в обязанность которого входит «вязать и решить». Мы ведь можем только гадать о том, каким грузом лежит на душе «властителя» ответственность за такие решения.
Но бремя власти может быть и благим. Ведь, какой след он оставил о себе в памяти верующего народа? Конечно, этот след – его дела по обустройству повседневной церковной жизни, тысячи изданных по его благословению книг. А еще это имена подвижников, которые были при нем прославлены. Ведь многие десятилетия до него, по сути дела, не слышно было на Руси о причислении кого-либо к лику святых, единичные исключения ни в счет. И наконец, в памяти тысяч верующих людей, паломников, которые со всех концов России шли, чтоб постоять в храме на службе, которую он служил, остались его лицо, его голос. Дело ученых мужей спорить о том, был ли у него дар проповедника, но его внимательно слушали, многие плакали, и пусть хоть не на долго, но им становилось легче жить.
Что еще сказать? Он был архиерей города Москвы. На эту кафедру он был поставлен промыслом Божиим. И какая, по большому счету, разница, было ли его имя Филарет, звался ли он Дроздов?
Двести лет назад, один молодой учитель пиитики написал проповедь. Проповедь о любви. Проповедь истинно христианскую: о любви к врагам, которая начиналась словами: «Любите враги ваша», и заканчивалась: «Любите враги ваша».
Тогда же молодой учитель пиитики прочитал эту проповедь своим ученикам-семинаристам. Как они ее восприняли, неизвестно. Может быть, она им понравилась, а может быть оставила равнодушными: мало ли они слышали речей, тем более, о любви к врагам. Скоро о ней и вовсе забыли все, включая и молодого учителя пиитики.
Правда, был один человек, который на эту проповедь обратил особое внимание: неизвестный сельский батюшка, который ее записал. Наверно она его тронула, ведь это было все-таки слово о любви.
Спустя много лет проповедь нашли и включили в собрание сочинений великого иерарха. Поместили ее в самом конце тома, поскольку не было известно, хотел ли сам автор видеть ее напечатанной. Скорей всего, он считал ее нестоящей публикации: написана она была в годы, когда он был еще всего лишь молодым учителем пиитики. Тем более, что позже за свою жизнь он написал немало замечательных, проникновенных слов о любви, в том числе и о любви к врагам.
Прошло двести лет. Многое еще оказалось за это время забыто. А сколько книг остались непрочитанными? Сколько книг, пылится в библиотеках с неразрезанными страницами? Но проповеди учителя пиитики повезло: люди о ней помнят, ее читают. Во-первых все-таки это речь о любви к врагам. А во-вторых, в ней есть замечательные слова, столь близкие верующим людям нашего времени: «Гнушайтесь убо врагами Божьими, поражайте врагов отечества».
То, что Петер Симон Паллас проехал почти по всей России с длительной научной экспедицией – факт общеизвестный. Менее известно, а вернее хранится в строжайшей тайне то, что другой, еще более именитый немец, Гете тоже побывал в России. Не подлежит сомнению, что побывал, но не в крупных городах, не в Петербурге и Москве и даже не в Нижнем. Он инкогнито проехал из Пруссии ямскими прогонами да проселками до самого Кавказа. Современники полагали, что он приобщается великой культуре античности в Италии, но Гете, глубочайший умо своей эпохи, не мог не знать, где хранятся истинные сокровища духа и разума. Куда Риму Ветхому до Рима Нового? Разве может быть высокая культура у тех, кто загнил еще во времена Теодориха?
Гете искал сокровенного знания у пустынников на горах Кавказских, в лесах Брынских. У кого он учился история нам не сохранила: то ли у Иллариона, то ли у Андроника, который потом был сослан по указу Синода в Суздаль за имябожничество. Да и это важно ли это?
Долгие годы жил Гете в милом Веймере с этой тайной на сердце. Некому было открыться, в стране чуждой культуры: и католики, и протестанты могли бы счесть его взгляды за ересь или сумасшествие. Да и зачем вводить в грех осуждения профанов, которым недоступна истинная мистагогия? Гете предпочел считаться атеистом.
Незадолго до смерти в 1823 году Гете открылся искреннему другу и тайному ученику Иоганну Петеру Эккерману. Последний долго колебался, но в первом издании своих «Разговоров с Гете» ни словом не обмолвился об этой тайне учителя. Наконец в третьей книге как бы вскользь, обмолвкой он поместил истинное именословное исповедание веры великого писателя: «Потом говорили на религиозные темы, например, о злоупотреблении именем Божьим. – Люди обходятся с ним так, словно непостижимое и невообразимое высшее существо принадлежит к им подобным. Разве же иначе они говорили бы: Господь Бог, Боже милостивый, Господи, Боже мой. Имя Его, которое они ежедневно произносят, – в первую очередь это относится к лицам духовного звания, – превратилось в пустую фразу, которая и мысли-то никакой в них не вызывает. Будь им понятно Его величие, они бы умолкли, из благоговения не осмелились бы называть Его по имени».