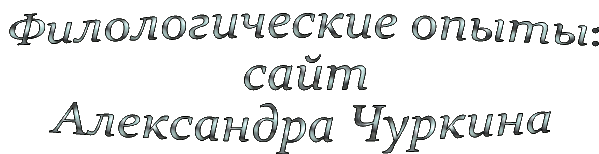Чуркин А. А.
Служба как фигура умолчания в творчестве С. Т. Аксакова.
Доклад прочитан 12 октября 2016 г. на международной научной конференции
"Чины и музы: Писатели на государственной службе" в Институте русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН.
S. T. Aksakov devoted 15 years to civil service in different departments. During his career, he had several conflicts with his supervisors, which were originated from ideas of duty and noble ethics being cultivated in the Aksakovs' family. In correspondence with his son Ivan, he worked out the balance of permissible and forbidden, which determined the usage of the figure of silence (apophasis) in the memoirs of S. T. Aksakov. As a result, he found a form for writing about his service, which can be considered as a kind of the rhetorical figure paralipsis. Thanks to it in his memoirs those conflicts are mitigated and shifted into the personal relationships area, and historically significant phenomena, like Censorship charter discussion, lose their worth and become a characterization means.
Первые ассоциации, которые возникают при упоминании имени Сергея Тимофеевича Аксакова, – это тихая жизнь в помещичьей усадьбе, детство, охота и рыбалка; с его образом совсем не вяжется тот факт, что пятнадцать лет жизни были им отданы службе на разных постах и в разных ведомствах. Карьера его складывалась трудно, но все-таки нельзя назвать ее совсем неудачной. В 1808 году он поступил на должность переводчика в Комиссию по составлению законов, после переселения в Москву несколько лет был цензором в Московском цензурном комитете, и окончательно покинул службу чиновником 6-го класса, коллежским советником, уйдя с поста директора Межевого института (нынешнего Университета геодезии и картографии). Не смотря на то что в мемуарно-автобиографических произведениях Аксакова внимание на этой стороне жизни писателем не акцентировалось, она вызывает особый интерес у его биографов и изучена достаточно подробно.1 Дело в том, что, занимая во время служебной деятельности не слишком высокие посты, Аксаков неоднократно вступал в конфликты не просто со своим непосредственным руководством, но с верховной властью. В частности, цензорское разрешение на публикацию баллады Елистрата Фитюлькина (В. А. Протошинского) «Двенадцать спящих будочников» вызвало неудовольствие лично Николая I и закончилась увольнением писателя от должности. Для искреннего патриота и монархиста это было, конечно, большим ударом. Этот и другие конфликты неоднократно роковым образом сказывались на его судьбе. Когда в 1858 году Аксаков задумал издавать «Охотничий сборник», министр народного просвещения А. С. Норов послал в III Отделение вполне рутинный запрос; и, к удивлению своему узнал, что Аксаков считается крайне неблагонадежной и опасной личностью. В ответе Л. В. Дубельта кроме служебных ошибок Аксакову были поставлены в вину давняя публикация анекдота «Рекомендация министра» и не прошедшие цензуру эпизоды из «Семейной хроники». Ответ заканчивался словами: «нельзя предполагать, чтобы он <С. Т. Аксаков>, при издании помянутого сборника, руководствовался должной благонамеренностью и потому едва ли можно ему дозволить издание какого бы то ни было журнала».2 Аксаков не был богатым помещиком; его попытки заняться сельским хозяйством не увенчались успехом, поэтому служба для него была необходимостью. Жизнь в столице с большим семейством требовала значительных материальных расходов, и служебное жалование было в этом отношении важным подспорьем. После своего увольнения с должности цензора, находясь отчаянии от несправедливой отставки и грядущих финансовых проблем, он писал в письме московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицину: «Начинаю с того, что я ничего не ищу и ничего не прошу. Я желаю получить то, на что имею полное право – доброе ваше мнение, потому что я дорожу им: ибо уважаю в вас не только государственного сановника, но и человека».3 Изложив затем суть конфликта, послужившего поводом к увольнению, Аксаков заключает: «Не будите-ли вы сами жалеть, когда отношение ваше к министру воспрепятствует мне получить другое место, <...> что по небогатому моему состоянию лишит меня возможности жить в Москве и воспитать десятерых детей: цель для которой я живу на свете?»4 Кроме ссылки на материальные трудности в этом письме примечательно желание защитить прежде всего свои доброе имя и честь: «Ваше сиятельство именно обвинили меня одного, и в выражениях оскорбительных для моей чести. Вам одним отдаю на суд все дело. Вы написали, что “я изменил доверенности правительства, что отговорки мои изобличают ветреность, что я дурно исполнял мою должность, и что меня следовало бы предать законному наказанию”... Такая обида, суд и осуждение чиновника, которого действия не могут быть вам неизвестны, поразили меня удивлением и огорчением».5 Аксаков, осознанно или нет, старается перевести проблему из сферы деловой в частную, акцентирует личные стороны взаимоотношений. Заключает он свое письмо эмоциональным заявлением: «Жалуюсь вам – на вас».6 В этой самозащите ad hominem отразились не только индивидуальные взгляды писателя, но также представления о долге и сословной дворянской этике, культивировавшиеся в семье Аксаковых. Служба воспринималась ими как дворянское право на деятельность «во имя правды, добра, пользы общественной»7. Эти слова тоже цитата из очень близкого по содержанию письма, написанного спустя семнадцать лет по схожему поводу (увольнению со службы) но не Сергеем Тимофеевичем, а Иваном Сергеевичем Аксаковым. Он, в частности, писал: «Человеку с характером живым, с привычкою и потребностью деятельности общественной, с нелюбовью к помещичьему званию – трудно у нас в России оставаться без службы. <...> Я должен был сознаться, что как ни безуспешна кажется борьба с современною неправдою, тем не менее обязан честный человек нести подвиг борьбы до последней крайности; я должен был согласиться, что недостатки административного формализма могут отчасти восполняться личностью самого чиновника в соприкосновениях его с действительностью...».8 Надо сказать, что такие, характерные для семьи Аксаковых, но во многом идеалистические, представления противоречили общепринятым; а следование им расценивалось другими чиновниками в лучшем случае как нарушение субординации и непрофессионализм, а в худшем – как неблагонадежность. Несмотря на то что творчество С. Т. Аксакова носило преимущественно мемуарный характер, рассказам о конфликтах во время своей служебной деятельности писатель уделил в нем крайне незначительное место и, по сути дела, он умолчал об этой стороне своей жизни. Конечно, это можно объяснить тем, что хронологически воспоминания Аксакова прерываются на событиях 1826 года, за шесть лет до увольнения с цензорской должности. Нельзя при этом сказать, чтобы он совершенно избегал темы службы: в очерке «Александр Семенович Шишков» он упомянул о своей работе в Комиссии по составлению законов, а в «Литературных и театральных воспоминаниях» – о своем цензорстве. Однако Аксаков нашел такую форму рассказа о годах службы, которую можно рассматривать как разновидность риторической фигуры умолчания. Умолчание стимулирует воображение, концентрируя внимание на том, что замалчивается; оно актуализирует контекст произведения, перенаправляя на него читательское восприятие текста. В XIX веке между распространенными риторическими средствами выразительности фигура умолчания стала одной из самых популярных. Литература Николаевской эпохи, существующая в узком пространстве многочисленных официальных и негласных запретов, не могла не использовать этот прием. Кроме художественной цели он имел и вполне прагматичную функцию: являлся средством преодоления цензурных ограничений, и своего рода самозащитой писателя от государственного контроля. В этом отношении умолчание, как к математическому пределу, стремилось к самоцензуре. В то время, когда С. Т. Аксаков работал над воспоминаниями, его сын Иван находился в длительных служебных командировках. В письмах к семье он описывал свои наблюдения, и при всем первоначально благожелательном настрое Ивана Сергеевича к традиционному русскому быту в переписке с родными постепенно начинает преобладать критическое и пессимистическое настроение по поводу того, как работает система государственного управления. С. Т. Аксаков, как мог сдерживал критичный настрой сына, понимая, что выражение недовольства государственной системой опасно даже в частной переписке: «Теперь мы живем в Москве, и потому надобно быть еще осторожнее в письмах. Повторяю тебе эти слова в сотый раз, я наперед знаю, что ты не удержишься. Ты не понимаешь слова “осторожность” в обширном его значении; ты будешь осторожен в одном предмете, в другом, а в третьем и четвертом не будешь».9 Его страхи были оправданы: известно, что именно на основании перлюстрации переписки с отцом И. С. Аксаков был арестован и подвергнут допросу в III Отделении. Тем не менее, возможно, что именно в этих обсуждениях вырабатывался баланс допустимого и запретного в высказывании, определявший особенности использования фигуры умолчания в произведениях С. Т. Аксакова. К примеру, таков был его строгий выговор сыну по поводу присланных им стихов: «Стихи твои мы получили. Ты просишь сказать о них мое мнение? Вот оно прямое и откровенное: я желал бы, чтоб ты никогда не писал этих стихов; но как они уже написаны, то прошу убедительно и приказываю строго никому их даже не читать. <...> Неужели ты думаешь, что если твои стихи попадутся злонамеренному толкователю, то он не найдет в них обширного поля для обвинения тебя... Ты скажешь: от злонамеренных обвинений не уйдешь. Неправда: обвинения без факта останутся голословной клеветой, а некоторые слова в твоих стихах – факты. Что до того, что эти слова поняты ложно (умышленно или неумышленно – это все равно); что другие выражения в тех же стихах ясно определяют их смысл...».10 Однако обычная осторожность или самоцензура, как факт биографии писателя, еще не является фигурой умолчания. Чтобы стать явлением художественным событие должно переместиться из пространства повседневности в сферу эстетическую, превратиться в текст. В данном случае речь идет о художественном тексте. Умолчание может присутствовать и в деловом письме, через этикетные формы вежливости, и в эзоповском языке подцензурной историографии и публицистики, но мы ограничимся только сферами мемуаристики и беллетристики. Фигура умолчания в мемуарном тексте примечательна тем, что она позволяет ощутить ту грань, которую Бахтин называл «зоной контакта с незавершенной действительностью».11 Мемуарист обычно умалчивает о том, что может оказать влияние на внелитературную действительность: например, может затронуть чувства других людей и т. п. Предметом воспоминаний обычно являются события, произошедшие давно и утратившие актуальность к моменту описания; однако если автор о чем-то говорит иносказательно или дает читателю понять, что раскрывает историю лишь частично, сам факт подобного умолчания свидетельствует о значимости этого события в настоящем. Чтоб увидеть, где находится «зона контакта с действительностью» и что происходит когда реальность соприкасается с эстетикой, сравним тексты общие по тематике, но отличающиеся по своей прагматической функции: конспект деловой беседы, краткий черновой набросок из аксаковских мемуаров и окончательный отрывок из «Литературных и театральных воспоминаний» – все они будут вращаться вокруг проблемы цензурного устава. Важнейшей проблемой для С. Т. Аксакова во время цензорской деятельности была необходимость согласовать личные представления о границах допустимого в литературе с законодательством, которому он был обязан следовать. Все еще усложнялось тем, что цензурный устав за эти годы менялся дважды и кардинально.12 Уже после своего увольнения Аксакову довелось пообщаться на эту тему с автором второго устава министром юстиции Д. В. Дашковым. Вероятно Аксаков считал этот разговор очень важным, поскольку сразу же его законспектировал. Эта документальная запись позволяет нам взглянуть на то, как он видел проблему в реальности, вне художественной рефлексии. Приведу небольшой отрывок из диалога. На вопрос министра, «Заметили-ли вы разницу в делах при исполнении двух уставов?», Аксаков отвечал: «Весьма большую и страшную. Первый Устав был стеснителен, неприличен своему времени. Он делал цензора инквизитором, позволяя ему отгадывать темную мысль сочинителя и преследовать его судом. Второй Устав, напротив, написан в духе законной свободы, с полным желанием дать возможность сочинителю не опасаться никаких претолкований в другую сторону. <...> С прискорбием должен сказать вашему в<высоко>превосходительству, что при при прежнем жестком варварском Уставе цензура действовала гораздо свободнее, сочинители были довольны, и Комитет Цензурный не получал ни одного выговора, а несколько благодарностей за осторожность в действиях. <...> Причина состоит в том, что прежний устав не был нарушаем, а последний искажен министерскими, частными, секретными предписаниями, совершенно противоположными свободному духу».13 Далее в разговоре обсуждались предлжения Аксакова по изменению устава и его последовавшее затем увольнение. Приведенный разговор состоялся в 1835 году. Более двадцати лет спустя, приступая к написанию «Литературных и театральных воспоминаний», Аксаков вновь формулирует мнение о цензурном уставе 1826 г. В рукописи сохранился зачеркнутый отрывок, вот его начало: «Устав был совершенно несовременен и стеснителен до высшей степени: при малейшей неблагонамеренности цензора бедный писатель предавался совершенно его произволу. Он имел право, даже был обязан, отыскивать тайный смысл в словах, читать между строк. Этого мало: цензор имел право запретить сочинение, если слог ему не нравился; это предписывалось под благовидным предлогом соблюдения чистоты российского языка. Само правительство признало невозможность такого устава и заменило его другим, написанным людьми просвещенными в духе законной свободы».14 Как видим, эта запись, по сути дела, повторяет основные тезисы разговора с министром юстиции. Но мемуарный текст не может долго формулироваться в обезличенной историографической стилистике, и постепенно в рассказе Аксакова начинает заявлять о себе личностное начало, в данном случае апология. Чувство обиды за увольнение, желание доказать его несправедливость искало выхода в словах: «В настоящую минуту я один остался в живых из действовавших тогда цензоров по шишковскому уставу и скажу по совести, что никто из нас не употреблял во зло своей власти, никто из сочинителей не жаловался на притеснение и даже на замедление, и никто из цензоров не получал ни одного замечания. У меня хранится бумага, подписанная всеми тогдашними московскими литераторами, журналистами, содержателями типографий и книгопродавцами; в этой бумаге заключается благодарность за успешный и свободный ход цензурного дела... Это довольно странно, дико – но это факт».15 В окончательном варианте «Литературных и театральных воспоминаний» вычеркнутый абзац разросся до восьми страниц текста. Проблема цензурного устава по-прежнему остается в центре внимания мемуариста, но форма подачи и сюжетная функция означенного мотива меняются: отношение к уставу становится элементом характеристики персонажей. Например, в первые дни цензорства у Аксакова произошел спор с его руководителем кн. В. П. Мещерским по поводу работы. Князь придрался к почерку одной из рукописей, заявив, что не будет ее проверять: «“Я по службе обязан читать рукописи, но не обязан терять глаз; в уставе именно есть параграф, в котором сказано, что рукописи должны быть чисто, четко и разборчиво писаны”. Я посмотрел толстую тетрадь Арцыбашева и увидел, что она написана очень четко и что только ссылки и выписки из грамот написаны мелко. Я сказал моему председателю, что это слишком строго, что если у него не слабы глаза, то рукопись прочесть очень можно. Потом я завел серьезный разговор с ним о новом цензурном уставе и доказывал ему, что если буквально его держаться и все толковать в дурную сторону, на что устав давал полное право цензору, то мы уничтожим литературу, что я намерен толковать все в хорошую сторону. У нас зашел горячий спор...».16 Это противостояние с председателем Московского цензурного комитета князем Мещерским стало лейтмотивом наиболее крупного эпизода, посвященного цензорской деятельности Аксакова: знакомством их он начинается, и на увольнении председателя от должности заканчивается. История их взаимоотношений, конфликт по поводу понимания устава и цензорской деятельности является вполне законченным текстом, а краткое возвращение к рассказу о службе спустя несколько страниц звучит как своего рода «послесловие» к нему. Чтобы понять своеобразие стилистики автора «Литературных и театральных воспоминаний», можно сравнить их с записками С. Н. Глинки.17 Рассказав анекдотичную историю о первых днях службы новоиспеченного коллеги, Аксаков дает очень емкую характеристику Глинки, основанную на определении его отношения к уставу: «Председатель называл его Диогеном, циником, и очень забавлялся им, но беспрестанно повторял: “Какой же он цензор, особенно при нынешнем уставе?”»18 Глинка в своих «Записках» тоже очень подробно останавливается на той же теме, детально разбирая недостатки «чугунного» устава; но текст его фактографичен, сосредоточен на анализе проблемы. Описывая цензурный комитет, он рассказывает прежде всего о понимании своей роли в общем деле, не создавая портретов коллег: достаточно сказать, что Глинка упоминает Аксакова лишь два раза, и то вскользь. При этом записки Глинки интересны тем, что хранят энергию возмущения кипевшего среди друзей-цензоров: «Екатерина Вторая, переместя выражение Паскаля в свой Наказ, повторила: “Можно перетолковать и молчание”. А § 151 чугунного устава обязывал цензоров отыскивать д в о я к и й с м ы с л , то есть превращал цензурный комитет в инквизицию. Ужели кропатели этого устава не знали и не ведали, что и самую святую, небесную молитву, что и “Отче наш” можно перетолковать якобинским наречием? Прости им Господи!»19 Обратим внимание на использованное Глинкой сравнение с инквизицией. Судя по всему, оно было распространенным, поскольку используется и Аксаковым, но контекст и акценты в каждом случае отличаются. В конспекте разговора Аксакова с министром оно применяется для характеристики устава: «Первый Устав был стеснителен, неприличен нашему времени. Он делал цензора инквизитором, позволяя ему отгадывать темную мысль сочинителя и преследовать его судом».20 В мемуарах Аксакова эпитет «инквизиторский» прилагается Аксаковым к оценке взглядов кн. Мещерского, акцент с недостатков законодательства смещался на личность, подчеркивая недоумение мемуариста по поводу бюрократического цинизма председателя: «Спор о цензурном уставе с моим председателем привел меня в большое недоуменье. Мне даже казалось, не хотел ли он испытать меня? Мне не верилось, чтоб такой умный, светский, любезный и подчас веселый человек мог иметь такие инквизиторские понятия о цензуре. Чем более я думал, тем более утверждался в этой мысли; но впоследствии кн. Мещерский убедил меня в своей искренности».21 В итоге характеристика цензорской деятельности остается негативной, но адресат критики смещается с устава на личность его исполнителя: если использовать традиционные риторические термины, здесь присутствует «паралипсис» – умолчание через косвенное упоминание. Жерар Женетт в своей работе «Фигуры» противопоставляет две формы умолчания: эллипсис, когда автором нарушается хронология повествования, события пропускаются совсем или чтобы вернуться к ним позже; и паралипсис, когда событие упоминается, но сменяется его контекст.22 В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксаков активно задействует обе эти риторические фигуры. Так, эллипсис используется им, чтобы уклониться от обсуждения неудачных опытов в организации помещичьего хозяйства: он попросту пропускает в своих воспоминаниях годы жизни в деревне, вернее, упоминает об этих годах вскользь. В нескольких абзацах дает очень критичную оценку занятий сельским хозяйством, перечисляет написанные за этот период литературные труды и рассказывает о том, как в провинции воспринимались смерть императора Александра I и воцарение Николая I. Первый и последний рассказы становятся маркерами эллипсисов двух важных тем, которые Аксаков, намеренно или нет, обходит в своем творчестве стороной: истории современной ему России и собственной внутрисемейной жизни. Как уже отмечалась выше, служебной деятельности Аксаков уделяет несколько большее внимание, выбрая для рассказа о ней иную разновидность фигуры умолчания – паралипсис. Использование паралипсиса вместо эллипсиса не просто элемент нарративной стратегии, а свидетельство того, что эту сторону биографии Аксаков считал для себя важной. В конце концов, он ведь мог бы опустить ее без особого ущерба для воспоминаний, как и рассказ о помещичьей жизни. Первоначально редакции рассказа о службе было бы вполне достаточно, чтоб маркировать пропуск темы, не углубляясь в его причины. Однако рискнем предположить, что увольнение с должности в сопровождении негативного отзыва императора и спустя многие годы сохраняло для Аксакова свою болезненность, вот почему соответствующий фрагмент окончательного текста воспоминаний разворачивается им в своеобразную апологию собственных намерений и поступков. Вернемся к разговору с министром юстиции, где отчетливо заявлено отношение Аксакова к отставке: «...Я со своей стороны сделал, что мог, пожертвовавши собою, исполняя должность по духу Устава и по моему правилу: не возбуждать напрасного ропота против правительства. М<инистр>. Я не хотел напомнить об этом несчастном обстоятельстве. А<аксаков>. Простите мою смелость, в<аше> в<ысоко> п<ревосходительство>, когда я скажу, что я не считаю этого случая несчастным. Он показал мне мою душевную энергию и общественное мнение, которое узнать весьма лестно в минуту так называемого несчастия...»23 Последние слова очень показательны: если письма Ивана Аксакова времени его ухода со службы проникнуты чувствами одиночества и обиды на непонимание со стороны общества, то Сергей Тимофеевич, наоборот, был благодарен своим друзьям за поддержку. Образно говоря, «Литературные и театральные воспоминания» С. Т. Аксакова – это, прежде всего, книга о дружбе: не так много в нашей литературе произведений, где о ней рассказывается с такой проникновенной и даже идиллической интонацией. Эта интонация проникает и в заключительный эпизод рассказа о службе, в котором цензоры, авторы и редакторы сосуществуют в бесконфликтном симбиозе: «Мои дела по цензурному комитету шли очень мирно и успешно. Нет ничего мудреного, что литераторы, и крупные и самые мелкие, все журналисты, книгопродавцы, содержатели типографий и букинисты были очень довольны существованием нового комитета. Все требования по текущим книжным делам исполнялись немедленно; кто подавал брошюрку листа в два или три, тот, даже не выходя из комитета, получал ее обратно процензурованною. <...> Строгости нового цензурного устава никто не чувствовал, потому что не было ни малейшей надобности прибегать к ней, если цензор не имел собственного желания пускаться в злонамеренные толкования. <...> С издателем же “Московского вестника” М. П. Погодиным и сотрудником его С. П. Шевыревым я познакомился и сблизился очень скоро. Я даже предложил Погодину писать для него статьи о театре с разбором игры московских актеров и актрис, что могло разнообразить и оживлять его журнал. Издатель был очень благодарен, и для помещения моих статей о театре прилагал к каждой книжке “Московского вестника” по листу и по два, под весьма неправильным названием “Драматических прибавлений”».24 Апология Аксакова, нашедшая свое выражение, в том числе, и через описание служебной деятельности в идиллических тонах, не была простым самооправданием. Деятельность Московского цензурного комитета на общем фоне николаевcкой эпохи выделялась особым подходом к работе с авторами – «совещательной цензурой». Суть его сводилась к тому, что цензоры не запрещали сомнительных мест, а вместе с авторами искали компромиссные варианты. Идею такого подхода подал С. Н. Глинка,25 и она стала одной из лучших иллюстраций формулы Ивана Аксакова: «недостатки административного формализма могут отчасти восполняться личностью самого чиновника в соприкосновениях его с действительностью».26 Таким образом, несмотря на то что С. Т. Аксаков в своей мемуарно-автобиографической прозе уделял не так много внимания собственной служебной деятельности, тема эта представляет большой интерес в контексте изучения аксаковской поэтики. На примере разобранных текстов мы наблюдали как события его реальной (в данном случае его чиновничьей) жизни эстетически осмысляются в «Литературных и театральных воспоминаниях». Отправной точкой для этого стали личный жизненный опыт чиновника-цензора, а также обсуждение с сыном Иваном границ допустимого в литературе того времени. Используемая Аксаковым разновидность фигуры умолчания, паралипсис, позволяла говорить о ней с достаточно большой мерой откровенности. Рассказывая трудностях, связанных с исполнением его должностных обязанностей, он выбрает художественную форму, в которой описываемые конфликты смягчаются, переводятся в план личных взаимоотношений, а исторически значимые явления, например, цензурный устав, утрачивают свою самоценность и становятся средством характеристики персонажей. Создавая апологию цензорской деятельности, Аксаков-мемуарист отказывается от позиции объективного наблюдателя-историка и позиционирует себя прежде всего как литератора.
1
Павлов Н. М. Сергей Тимофеевич Аксаков как цензор // Русский Архив. 1898. Кн. 2. № 5. С. 81 – 96; Машинский С. И. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. М., 1973. С. 26 – 28, 127 – 175, 181 – 199 и др.
2
«Охотничий сборник» С. Т. Аксакова: Ответ Дубельта Норову // Русский Архив. 1894. Кн. 1. № 2. С. 222.
3
Павлов Н. М. Указ. соч. С. 92.
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же, С. 93.
7
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: В 4 т. М., 1888. Т. 2. С. 408.
8
Там же. С. 408. Подробнее об этом письме И. С. Аксакова к графу Л. А. Перовскому и его контексте см.: Тесля А. А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова. СПб., 2015. С. 76 – 78.
9
Аксаков И. С. Письма к родным, 1849 – 1856. М., 1994. С. 544. (Лит. памятники)
10
Там же. С. 548.
11
Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 231.
12
Литература по истории российской цензуры XIX века обширна. Деятельности Московского цензурного комитета посвящена диссертация: Ботова O. O. Московский цензурный комитет во второй четверти девятнадцатого века: Формирование. Состав. Деятельность. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. О цензурных уставах 1826 и 1828 гг. см.: Рейфман П. С. Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России: В 2 т. М., 2015. М., 2015. Т. 1, вып. 1: Допетровская Россия – первая треть XIX в. С. 100 – 104, 116 и далее.
13
Павлов Н. М. Указ. соч. С. 94 – 95.
14
Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 705.
15
Там же.
16
Там же. С. 119.
17
Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 347 – 358. О цензорской деятельности С. Н. Глинки см.: Вацуро В. Э. Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 151 – 158.
18
Аксаков С. Т. Собр. соч. Т. 3. С. 121.
19
Глинка С. Н. Указ. соч. С. 349.
20
Павлов Н. М. Указ. соч. С. 94.
21
Аксаков С. Т. Собр. соч. Т. 3. С. 120.
22
Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 87 – 89, 136 – 138.
23
Павлов Н. М. Указ. соч. С. 95.
24
Аксаков С. Т. Собр. соч. Т. 3. С. 127 – 128.
25
Вот как С. Н. Глинка описывает это: «Товарищами моими были гг. Аксаков и Измайлов «Милостивые государи, - сказал я им, - если будем буквально руководствоваться уставом, то нам ни одного слова нельзя будет пропустить. Устав обязывает отыскивать двоякий смысл, а каждое почти слово подвержено перетолкованию. Я целый год отбивался от цензурного стула, потерял три тысячи жалованья, и теперь одна смертельная нужда заставила меня принять звание цензора. Вы можете поверить, что я вник в устав и что я удостоверился, что он недолго проживет. Но и при мимолетном его существовании мы накличем на себя много бед, если, повторяю еще, будем придерживаться буквам устава. А потому составим цензуру совещательную».
Товарищи мои просили, чтобы я объяснил им, что значит цензура совещательная? Я отвечал: «Если в рукописях тех, которые постарее нас, заметим что сомнительное, то поедем к ним на дом для объяснения. А кто помоложе нас, того пригласим в комитет»». (Глинка С. Н. Указ. соч. С. 351).
26
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 2. С. 408.
Опубликован: Чуркин А. А. Служба как фигура умолчания в творчестве С. Т. Аксакова // Чины и музы: Сборник статей / Отв. ред. С. Н. Гуськов, ред. Н. В. Калинина. Санкт-Петербург; Тверь: Издатель-ство Марины Батасовой, 2017. C. 373 – 388.