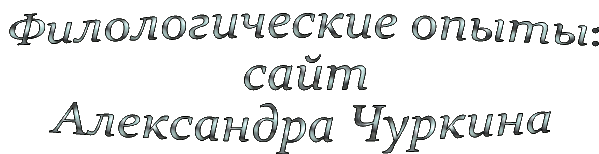Чуркин А. А.
Синтез поэзии и риторики в малой прозе святителя Игнатия Брянчанинова.
Статья опубликована: Чуркин А. А. Синтез поэзии и риторики в малой прозе святителя Игнатия Брянчанинова // Христианство и русская литература: Сборник восьмой / Отв. ред. В. А. Котельников и О. Л. Фетисенко. СПб.: Изд. "Пушкинский дом", 2017. С. 3 – 25.
In the heritage of St. Ignatius Brianchaninov (1807 – 1867) some short lyric essays are of peculiar interest. They can be designated as the spiritual prose poetry. Embedding elements of sentimentalism in religious theme is characteristic feature of those texts. In some of them there are reflections of graveyard poetry. In others there are melancholic contemplations about nature.
It is very convenient to explore the style of those lyric essays by the instance of “The voice from the Eternity”. This text is composed by the traditional rhetoric canons and enriched with elegiac motifs. There are two versions of this work, their comparison helps better understand the literary methods used by st Ignatius. Thus his short lyric essays gave the example of junction secular and religious literature. Творчество святителя Игнатия Брянчанинова занимает уникальное место в истории русской литературы в целом и духовной литературы в частности. Личность его неординарна – недаром он послужил прототипом одного из героев повести Лескова «Инженеры-бессребреники». Принадлежа к старинному дворянскому роду, получив образование в Инженерном училище, он отказался от военной карьеры и принял монашество. В течение 23-х лет он являлся настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой пустыни под Петербургом, затем несколько лет был епископом Кавказским и Черноморским и окончил свою жизнь на покое в Николо-Бабаевском монастыре.
В своей книге «Смысл творчества» Н. Бердяев сожалел, что «Пушкин и св. Серафим [Саровский] жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались».1 Судьба поставила свт. Игнатия непосредственно на границе этих двух миров, сделала его связующим звеном между ними.2 В годы юности он посещал литературный салон своего родственника А. Н. Оленина, тесно общался с Н. И. Гнедичем. Приняв монашество, стал учеником первого оптинского старца Леонида, через него приобщившись к духовной традиции последователей преп. Паисия Величковского. Став затем настоятелем «придворного» монастыря, Троице-Сергиевой пустыни, свт. Игнатий возобновил свои контакты со светской литературно-художественной средой, общаясь с К. П. Брюлловым, М. И. Глинкой, А. А. Плещеевым и др. В то же время он как лицо духовное находится в тесных взаимоотношениях со свт. Филаретом Московским, свт. Феофаном Затворником и другими церковными деятелями и писателями. Таким образом свт. Игнатий всю свою жизнь находился на стыке светской и духовной культуры, был свидетелем и участником происходивших и там, и там литературных процессов, что естественным образом нашло отражение и в его творчестве.
Проблематика взаимоотношений светской и духовной традиций в творчестве свт. Игнатия имеет разные аспекты. Особое внимание исследователей привлекало его своеобразное «почвенничество», осуждение им западной культуры, а также «противоборство с мистическими влияниями Александровской эпохи».3 В своих произведениях он не раз критиковал сложившуюся в то время в образованном обществе моду на книги мистического содержания, а особенно, популярность трактата «О подражании Христу» Фомы Кемпийского.4 Интерес к этой стороне творчества свт. Игнатия определяется и общим контекстом развития русской духовной литературы XIX века, который так описывает свящ. П. Хондзинский: «Сформулированные выше проблемы – Церковь и расцерковленный быт, Церковь и Запад, Церковь и светская власть, Церковь и светская культура, Церковь и мнимые христиане явились тогда одновременно во всей своей остроте и многообразии и настоятельно потребовали своего разрешения, прямо угрожая неповрежденности Церкви. Очевидно, что рассмотрение их могло следовать двоякой логике: логике синтеза или логике разграничения. <...> Классическим представителем последнего был, например, свят. Игнатий. Небезынтересно, впрочем, заметить, что он, <...> изначально принадлежал по своему происхождению и воспитанию как раз к светской – то есть прозападной – культуре».5 В итоге сложилась своеобразная репутация свт. Игнатия как крайнего ригориста, настороженно относящегося к любым внешним по отношению к Церкви влияниям.
Образ «церковного охранителя» отчасти заслонил собой другую сторону творчества свт. Игнатия, на которую также давно обратили внимание исследователи, и которая, на наш взгляд, не менее значима. Любой, кто читал его произведения, не мог не обратить внимания на язык, которым они написаны. Русская духовная проза XIX века богата авторами, блестяще владевшими словом – свв. Филарет Московский и Феофан Затворник, архиеп. Иннокентий Херсонский6 и прав. Иоанн Кронштадтский, – но и на их фоне произведения свт. Игнатия выглядят особенными. Причина этому – поэтика и стилистика его книг, в которых светская и духовная части русской литературы слились в единый сплав, обрели уникальный синтез.
Особое место в наследии свт. Игнатия занимают несколько произведений, которые можно было бы назвать «стихотворениями в прозе», если вынести за скобки то, что это проза церковно-риторическая. Обычно к ним относят группу небольших по объему лирическо-медитативных произведений, включенных в 1-й том «Аскетических опытов». Свт. Игнатий сам выделял среди своих произведений те, которые носят поэтический характер. В одном из писем он так размышляет о подготовке их к изданию: «Вообще разговоры, как то: об Иисусовой молитве, о смирении и о монашестве недовольно пересмотрены и очищены. У них слог иной и должен быть иным, нежели у поэтических сочинений, каковы «Плач», «Блажен муж», «Чаша», «Зрение греха своего»» (VIII, 435). Как мы видим, свт. Игнатий осознанно относился к стилю своих произведений. Более того, творчество его носило во многом экспериментальный характер: он пытался сочетать в нем традиции святоотеческой аскетической литературы, церковно-славянских библейских и гимнографических текстов, церковной проповеди, светской поэзии, эпистолярной прозы и эссеистики. Для каждого отдельно взятого произведения он старался подобрать свою собственную меру, которая обеспечивала бы гармоничное сочетание элементов поэтики столь разных литературных жанров.
Ниже мы преимущественно будем рассматривать три произведения: «Дума на берегу моря», «Кладбище» и «Голос из вечности (Дума на могиле)». Это небольшие по объему тексты, их можно называть миниатюрами. Они очень близки по сюжету, представляя собой размышления на духовные темы. В их поэтике и стилистике есть много общих черт, в том числе в этих произведениях нет прямого цитирования творений святых отцов, что принципиально отличает их от богословских и аскетических работ свт. Игнатия. Отправной точкой сюжета этих трех миниатюр являются наблюдения за явлениями природы или посещение могилы близких людей. Все они написаны в 40-е годы XIX века.
Если говорить о литературной предыстории, то можно назвать много предшественников свт. Игнатия среди духовных писателей – от преп. Ефрема Сирина до свт. Тихона Задонского. Исследование творческих взаимоотношений с ними кроме литературоведческого анализа требует углубления в богословие, поэтому в данной работе эта линия будет вынесена за скобки; и внимание будет сосредоточено преимущественно на связях творчества свт. Игнатия со светской литературой.
То, что свои «поэтические» произведения свт. Игнатий, как правило, писал прозой, это не оксюморон, а следствие процессов, протекавших в русский литературе того времени. Форма его «миниатюр» во многом связана с традициями, заложенными в эпоху сентиментализма и предромантизма. В последней трети XVIII века особую популярность приобрел жанр «отрывка». Европейская поэзия переводилась тогда прозой. Переводчики зачастую выбирали из поэм Оссиана и других крупных поэтических произведений отдельные фрагменты, иногда исходя из собственного вкуса, иногда из-за ограничений объема, налагаемых издателем. Такая же судьба постигла и «кладбищенских» поэтов Юнга, Грея, отрывки из которых и подражания которым, как отмечал В. Э. Вацуро, можно выделить в отдельный подвид «прозаической элегии».7 Эти произведения, сочетавшие в себе нравственную дидактику с интересом к душевной жизни человека, вначале обрели особую популярность в масонской среде,8 а затем стали частью общего потока литературы.
Есть и еще один важный фактор, влиявший на выбор прозаической формы переводчиками XVIII века, – это неразвитость поэтического языка той эпохи. Как отмечает В. И. Сахаров: «Поэтический язык еще не развит, явно недостаточен, не успевает за миром идей, за философией и мифологией, и формой для них на первых порах становится та же барочная проза, должным образом ритмизованная и впоследствии переходящая в белый стих <…>. Недаром молодой Н. М. Карамзин и его друг и «брат» по ложе А. М. Кутузов переводят целые немецкие и английские поэмы прозой и сами пишут белым стихом…».9
К середине XIX века светская поэзия уже преодолела этот недостаток, но язык духовной поэзии все еще оставался на стадии становления. Свт. Игнатий отчетливо сознавал это, в одном из своих писем к иноку Леониду он признавался: «Мне очень не нравятся сочинения: «Ода Бог», Преложения псалмов, все, начиная с преложений Симеона Полоцкого, Преложения из Иова Ломоносова, athale de Racine – все, все поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания и Религии, написанные писателями светскими. Под именем светского разумею не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом мира. Все эти сочинения написаны из «мнения», оживлены «кровяным движением». <…> Ода написана от движения крови, – и мертвые занимаются украшением мертвецов своих! Не терпит душа моя смрада этих сочинений. По мне, уж лучше прочитать, с целью литературною, «Вадима», «Кавказского пленника», «Переход через Рейн»: там светские поэты говорят о своем, – и в своем роде прекрасно, удовлетворительно» (VII, 511 – 512). Отвлекаясь от субъективности оценок свт. Игнатия, нельзя не признать, что во многих переложениях духовной поэзии адекватная передача библейской образной системы при помощи традиционных для того времени стихотворных форм и приемов была практически невозможна. Трудности этой работы часто прикрывались эмоциональностью, превыспренностью и многословной перифрастичностью языка – «мнением» и «кровяным движением» по аскетической терминологии свт. Игнатия. Поэтому, в противоположность стихотворным, разнообразные прозаические формы переводов европейской поэзии, выполненные во второй половине XVIII века, и сформировавшиеся на их основе жанры «отрывка» и «прозаической элегии» дали свт. Игнатию необходимую опору для выработки стиля его «миниатюр».10
Отличительной особенностью рассматриваемых ниже произведений свт. Игнатия является специфичное привнесение в духовный текст мотивов, свойственных сентименталистской и предромантической поэзии.11 В некоторых из них отчетливо проступают образы «кладбищенской элегии» или оссианический морской пейзаж. К середине XIX века и те и другие уже имели свою историю, вошли в общий для всей литературы арсенал художественных средств. Сразу оговоримся что, не все наследие сентиментализма было близко свт. Игнатию. Традиционная для этого течения идея «естественного», «чувствительного» человека во многом противоречила религиозно-антропологическим взглядам святителя. Чувствительность для него была формой духовной прелести, так же как и культ сердца: «Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце добрым; оно было добрым до падения; по падении добро его смешалось со злом, и для спасения должно быть отвергнуто, как оскверненное» (III, 343).
Каждый раз, включая в свои тексты образы, привычные для светской литературы, свт. Игнатий пытался придать им новое звучание, переосмыслить в русле православной проповеднической традиции. Этому есть хорошее основание: мотивы, используемые светской литературой, часто имеют параллели в духовной. К примеру, описание бурного моря, излюбленный топос литературы и искусства барокко, позже возникающий и в оссианической поэзии, присутствует уже в Библии и святоотеческой литературе как образ опасностей, подстерегающих христианина, в море житейском или страстей, бушующих в душе.12
Значительную часть своей жизни свт. Игнатий прожил в Свято-Троицкой Сергиевой пустыни, на берегу Финского залива; морской пейзаж – и бурный, и тихий – ежедневно был перед его глазами, не удивительно поэтому, что этот образ стал ему очень близок. В письмах к монашествующим этот мотив регулярно возникает в его традиционной библейской и святоотеческой коннотации: «Не знаю, какие бури еще предстоят мне, но оглядываюсь назад – и чувствую в сердце невольную радость. Видя многие волны, чрез которые преплыла дша моя, видя опасные места, чрез которые перенеслась ладья моя, радуюсь невольно. Сильные ветры устремлялись на нее; многие подводные камни подстерегали и наветовали спасение ее – и я еще не погиб» (VIII, 242). В другом письме тот же мотив усложняется отсылкой к евангельской истории об ап. Петре,13 неудачно попытавшемся пойти по воде навстречу Христу: «Не испытывайте волн недоверчивою стопою размышления человеческого – идите смело по ним мужественными ногами веры – и обратятся под ногами вашими мягкие, влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более нейдут Вам робость и сомнение, при зрении моря скорбного, при зрении ветра крепкого, что призывающий Вас ходить по морю скорбей, отделяющий для такового хождения от прочей братии Вашей – Сам Господь» (VIII, 222). Однако в обоих примерах, при всей их развернутой метафоричности, описание внешнего вида бурного моря лаконично – свт. Игнатий лишь раскрывает аллегорическое содержание образа.
В «поэтических» произведениях описание бурного моря становится более наглядным и следует образцам светской литературы, сохраняя при этом, конечно, связь с библейской и святоотеческой традициями в понимании этого образа. Ярким примером такого подхода является «Дума на берегу моря». Первые строки ее сразу настраивают читателя на аллегорическое восприятие произведения: «Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни с истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который стоит на берегу волнующегося моря» (I, 168). Следующий затем морской пейзаж используется как метафора суетности мирской жизни, но при этом содержательная сторона аллегории уступает место наглядности. Буря на Финском заливе изображается в духе оссианической поэзии, описание ее развернуто, в нем появляются метафоры, сравнения и эпитеты, свойственные подобного рода текстам: «Море, препираясь с вихрем, ревет, становит волны, как горы, кипит, клокочет. Волны рождают и снедают одна другую; главы их увенчаны белоснежною пеною; море, покрытое ими, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами» (Там же).
В свою очередь описание тихого моря в «Думе на берегу моря» приобретает уже элегические нотки: «Где холмились гневные волны, там расстелется неподвижная поверхность утомленных бурею вод. После усиленной тревоги они успокоятся в мертвой тишине; в прозрачном зеркале их отразится вечернее солнце, когда оно встанет над Кронштадтом и пустит лучи свои вдоль Финского залива, навстречу струям Невы, к Петербургу» (Там же). Вид спокойного моря с отражающимся в нем небом, по мнению В. Н. Топорова, психологически связан с мыслями о бессмертии души.14 И как ни странно, данная в его статье интерпретация мотива, восходящая к «трансперсональной» школе психоанализа Грофа, здесь перекликается с традиционным православно-аскетическим толкованием этого образа свт. Игнатием: «Живописное зрелище, знакомое жителям Сергиевой пустыни! Это небо, этот берег, эти здания сколько видели увенчанных пеною гордых, свирепых волн? И все они прошли, все улеглись в тишине гроба и могилы. И идущие мимо идут, успокоятся также!»15 (Там же).
Завершается «Дума на берегу моря» своеобразным славословием. Оказывается, что противопоставление двух типов морского пейзажа, оссианического и элегического, служит для утверждения спасительности монашеского образа жизни: «Взирая из тихого монастырского пристанища на житейское море, воздвизаемое бурею страстей, благодарю Тебя, Царю и Боже мой! привел Ты меня в ограду святой обители! скрыл меня в тайне лица Твоего от мятежа человеческа! покрыл меня в крове от пререкания язык!» (I, 168 – 169).
В сентименталистской литературе с понятием «монастырь» связаны свои устойчивые мотивные комплексы: романтическо-готический и элегический. Первый, описанный М. Бахтиным, на первый план выводит внешнюю форму монастыря как средоточия исторической и культурной памяти, уходящей в «темное» средневековье.16 Такое абстрактное, оторванное от реальной монашеской жизни отношение, к тому же в сочетании с элементами таинственности, свойственными готическому жанру, конечно, было чуждо свт. Игнатию, и не удивительно, что он полностью его игнорирует. В свою очередь, в элегическом восприятии монастырь ассоциируется с кладбищем, на котором люди обретают успокоение от мирских страстей.17 Такое понимание было свт. Игнатию ближе, как мы увидим ниже, рассматривая другие его миниатюры, но в этом произведении он тоже уклонился и от такой коннотации. Единственное, что удерживает связь финала «Думы на берегу моря» с традицией сентиментализма, это общая «психологическая основа меланхолической элегии – «сознание уверенности»».18 Устранению обеих возможных ассоциативных связей с устойчивыми мотивными комплексами «монастыря» отчасти способствует и то, что в этом отрывке миниатюры, посредством цитирования Священного писания, свт. Игнатий переходит с русского языка на церковно-славянский. Всем этим подчеркивается, что, несмотря на проработанную поэтическую форму текста, главным в нем является содержание, заложенное в аллегории странника, обретающего приют в монастыре и покой в Боге.
В отличие от «Думы на берегу моря» художественный язык миниатюры «Кладбище» более однороден. Это произведение и по теме, и по сюжету вполне можно отнести к жанру «кладбищенской элегии»: автор приезжает на родину, посещает родовое кладбище. Описание пейзажа соответствует традиции кладбищенской элегии: оно достаточно конкретно, но при этом лаконично и символично. Главная его цель – вызвать у читателя необходимое автору настроение: «Я пришел на кладбище. Раздались над могилами песни плачевные, песни утешительные священной панихиды. Ветер ходил по вершинам дерев; шумели их листья; шум этот сливался с голосами поющих священнослужителей» (I, 170). Однако, меланхолическое созерцание природы не самоценно для свт. Игнатия: оно несет важную религиозно-дидактическую функцию, наводит автора на размышления о бренности человеческой жизни: «Мило зеленеют, утешительно, невинно шумят эти листочки, приводимые в движение тихим дыханием весеннего ветра. Придет на них осень: они пожелтеют, спадут с дерев на могилы, истлеют на них. При наступлении весны другие листочки будут красоваться на ветвях, и также только в течение краткой чреды своей, также увянут, исчезнут. Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка на древе!» (I, 170 – 171).
И здесь снова уместно вспомнить вышеупомянутую статью В. Н. Топорова, с идей о «психофизической» связи, существующей между видом спокойного моря, колышущихся на ветру ветвей деревьев и интуицией бессмертия души. Он проиллюстрировал ее стихотворением Б. Пастернака «Сосны», прокомментировав его так: «Заполненность всего пространства движениями, звуками, шорохами, запахами <…> создает специфический эффект колыхательности, зыблемости, смешения, растворения, освобождающий от злободневного, мнимо насущно бытового, мелкого и открывающего путь к обновлению, к ощущению той полноты жизни, которой имя – бессмертие, или «второе рождение» в бессмертии».19 Однако слова эти раскрывают смысл не только пастернаковского текста, но и миниатюры «Кладбище» свт. Игнатия. Риторический период, разделенный на короткие отрезки «колоны», оказывается замечательным средством воспроизведения этого самого мягкого, «колыхательного» ритма, сочетающегося с идеей о блаженстве вечной жизни: «К окончанию панихиды тихое утешение заменило собою глубокую печаль: церковные молитвы растворили живое воспоминание о умерших духовным услаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее умерших! они возвещали жизнь их, привлекали к этой жизни блаженство» (I, 171). Поэзия эпохи сентиментализма была чутка к этой идее, недаром в элегической поэзии умиротворяющий морской и лесной пейзаж так часто оказывался связан с идеями смерти и бессмертия.
Поэтический язык непрерывно обновляется, и часто используемые метафоры постепенно утрачивают актуальность, превращаясь в «общие места», а зачастую и в штампы. В творчестве свт. Игнатия многие образы, к середине XIX века ставшие уже типичными и абстрактными, насыщаются личным биографическим контекстом. И если вид бурного моря у него ассоциировался с жизнью в Троице-Сергиевой пустыни, то вид колышущихся вершин деревьев вызывал в его памяти, с одной стороны, образ родины, 20 а с другой – Оптиной пустыни: «Благословенная Оптина Пустыня не выходит из моей памяти. Приглянулась она мне и Скит с его вдохновенною тишиною. Шум сосен, когда ветер начнет ходить по их вершинам, для меня приятнее, чем шум разъяренных волн, препирающихся с вихрями»21 (I, 564). Так в сознании свт. Игнатия оживает описанный нами художественный ассоциативный ряд: аналогия тихого моря и колышущихся вершин деревьев противопоставляется морю бурному.
* * *
Устойчивая связь между поэтическими образами и их символическим содержанием – характерная особенность духовной поэзии, унаследованная ею из предыдущей литературной эпохи. Как писал об этом А. В. Михайлов: «Поэзия в морально-риторической системе есть форма назидательного знания. Но только здесь назидательность и знание, в?дение, никогда не существуют в отрыве от самой поэзии, как привесок, прибавление к ней. Они, напротив, усваиваются поэзией как ее внутренний, неотъемлемый смысл».22 Многие особенности творчества свт. Игнатия обусловлены тем, что оно пришлось на период распада морально-риторической системы. Процесс этот не был линейным: формирование новых границ между жанрами сопровождалось разного рода попытками возврата и восстановления утраченного единства. Современниками свт. Игнатия активно осмыслялся опыт литературы XVIII века. Те или иные ее направления становились важной отправной точкой для творчества не только разных поколений «архаистов», но и Пушкина, и Тютчева. Духовная литература также не оставалась в стороне от этого процесса, проявления его можно обнаружить в произведениях свт. Филарета Московского, свт. Игнатия и многих других церковных писателей.
С того времени, как в поэзии стала ослабевать учительная составляющая, началось налаживание новых связей между родами литературы. В XVIII веке эксперимент по взаимодействию риторики и поэзии проходил внутри одического жанра. Ю. Тынянов в статье «Ода как ораторский жанр» показал противоречивую динамику этого процесса.23 Общность функций и тематики торжественного красноречия и сентиментальной, дидактической поэзии создавала поле для взаимного обмена художественными образами и фигурами речи. Так, элегия, с ее интересом к миру внутренней человеческой жизни, к семейным и дружеским отношениям, не могла не вступить во взаимодействие с близкими ей по тематике религиозно-проповедническими жанрами. Отчасти на этой основе в поэзии Ф. Тютчева возникает синтез «принципа ораторской поэзии с использованием мелодических достижений элегии».24 Благодаря наличию глубинных связей в образной системе немало точек пересечения оказалось у элегии и с литературой нравственно-богословского характера. Не случайно поэтому в миниатюрах свт. Игнатия с элегией синтезировалась именно аскетическая проза. Обсуждая со своей духовной дочерью писательницей С. И. Снессоревой замысел книги «Мой дар друзьям моим», в которой «образ изложения, наружная форма, самый слог, – может быть новость в духовной русской литературе» (V, 514), он сообщает, что хочет выделить в отдельный раздел: «элегии; душа рассматривает себя, свои отношения к земле, к небу и пр.» (там же). Мотивы, обогащенные, сформированным в эпоху сентиментализма содержанием, требовали новых подходов для включения их в религиозный текст. Что было для этого нужно и как это происходило на уровне композиции и языка отдельного произведения, мы рассмотрим ниже на примере миниатюры свт. Игнатия «Голос из вечности (Дума на могиле)».
Так сложилась литературная биография свт. Игнатия, что на протяжении большей части своей жизни он в буквальном смысле слова работал в стол. Начав писать свой главный труд «Аскетические опыты», когда Пушкин еще только размышлял над «Полтавой», опубликовать его он смог, когда Достоевский печатал «Преступление и наказание». При этом черновых рукописей свт. Игнатия сохранилось мало, что, конечно, затрудняет исследование эволюции творчества писателя. На этом фоне миниатюре «Голос из вечности (Дума на могиле)», можно сказать, повезло: известно две редакции этого произведения, и сравнение их позволяет лучше понять эстетические принципы, которыми руководствовался свт. Игнатий как автор.
Впервые миниатюра вышла в свет в первом прижизненном издании «Сочинений епископа Игнатия» в 1865 году. Однако недавно была обнаружена и опубликована ранняя редакция этого произведения, сохранившаяся в одном из писем писателя (VIII, 90 – 93). Из письма следует, что «Голос из вечности» (там этот текст озаглавлен «Слово из вечности») возник как отклик на смерть Константина Федоровича Опочинина, сверстника свт. Игнатия. Своей скоропостижностью она произвела глубокое впечатление на святителя; он много размышлял о ней и, спустя почти полтора месяца после получения печального известия, написал это произведение.
Составляя «Аскетические опыты», свт. Игнатий расположил «Голос из вечности» после миниатюры «Кладбище», как бы завершая цикл прозаических элегическо-пейзажных произведений и одновременно создавая плавный переход к следующим затем аскетико-богословским текстам, посвященным учению о духовном плаче. Композиционно «Голос из вечности» состоит из краткого предисловия-экспозиции, в котором описывается состояние автора на могиле недавно похороненного друга, и основной части, воображаемого монолога от лица умершего.
Соседство с близким по теме и стилю «Кладбищем» невольно накладывает отпечаток на первые абзацы «Голоса из вечности», входит с ними в своеобразный резонанс, добавляет элегические нотки. Возможно, что свт. Игнатий надеялся на этот эффект, когда писал экспозицию к тексту, созданному за много лет до этого. Автор приходит на кладбище, чтобы проститься со своим другом; он печально наблюдает скорбь близких. Если сравнить этот отрывок с пейзажами из рассмотренных выше произведений свт. Игнатия, то описание того, что он видит, носит вполне условный характер, лаконичнее и совсем лишено аллегоричности. Формально это предисловие имеет вспомогательную функцию: служит обстоятельством места при основном тексте. Чуть позже мы еще раз увидим ту же картину, но уже не глазами автора, а глазами героя, его умершего друга. Однако благодаря своей теме и наличию в экспозиции, пусть и в сглаженном виде, основных «кладбищенских» мотивов, оно создает необходимый автору элегический контекст восприятия следующего затем монолога.
Среди жанров, формирующих контекст «Голоса из вечности», элегия далеко не единственная. Интересна в этом отношении коммуникативная позиция персонажа в основном монологе. С одной стороны, обращение от лица умершего к живым со времен античности традиционно для эпитафии, поэтому рассматриваемый текст можно было бы отнести к ее «литературной» разновидности. Есть лишь одна, но принципиальная оговорка: в эпитафиях, написанных от лица усопшего, он обращается чаще всего к незнакомому лицу, к «прохожему» – герой же миниатюры обращается к своим близким, причем к близким, лишь только что простившимся с ним, переживающим скорбь недавней разлуки.25 С другой стороны, речь от лица умершего присутствует в некоторых богослужебных текстах погребального цикла;26 но там она носит покаянный характер и обращена к Богу и Богородице, а родные и близкие лишь упоминаются в просьбе молиться об усопшем. Возможно, необычная коммуникативная позиция персонажа в «Голосе из вечности», увещание от лица умершего к близким, возникла как результат слияния эпитафии и заупокойного тропаря.
Монолог, в соответствии с канонами риторики, состоит из трех частей: введения, основной части и заключения.27 Композиционной особенностью введения (exordium) является отчетливый параллелизм структуры трех первых абзацев, состоящих из обращения к родным и близким и описания их скорби. Эти обращения лишь слегка варьируются в перечислении: «Отец мой! мать моя! супруга моя! сестры мои!».28 Вслед за обращением следует описание, в котором мы снова видим происходящее у могилы, но уже глазами не автора, а умершего героя. Перед нами картина, очень знакомая читателю по кладбищенской поэзии: скорбные близкие, надгробные камни, молитвы священников. Подобное описание, проникнутое сочувствием и даже некоторой меланхолией, обычно формирует традиционный образ элегического героя. Если попытаться дать краткое содержание описательной части введения миниатюры «Голос из вечности», то идеально подойдут строки из «Сельского кладбища» В. А. Жуковского:
«Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен».29
Однако такой образ элегического героя присутствует не на всем протяжении миниатюры: отчетливо он проступает сначала во введении, в центральной части его затемняет дидактика, и он вновь оживает в заключении. Рассказ ведется структурированной прозой, от чего возникает своеобразный эффект перевода содержания элегии с языка поэтического на язык риторический. Заканчивается введение вопросом к близким, который дает толчок к разработке основной темы произведения: «Что надо вам?... Не ожидаете ли вы из-под камня, из недр могилы мрачной моего голоса?» (I, 172).
Доминантой, на которой строится содержание центральной части монолога, становится парадоксальный ответ на эти скорбные ожидания: «Нет этого голоса! Вещаю одним молчанием» (I, 172). Вообще, антитеза речи и молчания – одна из базовых категорий культуры. В тексте она способна облекаться в разные формы, служить разным художественным целям. В нашей литературе она укоренилась еще в древнерусский период на волне исихастского движения. Не удивительно поэтому, что в поэзии XIX века по наблюдению М. Виролайнен: «Язык молчания, звучание тишины – это сочетание становится устойчивым топосом, обретающим мистическое содержание».30 Тем более закономерно появление этого архетипа в творчестве свт. Игнатия, одного из наиболее глубоких русских аскетов-мистиков. Тема существования души после смерти, возможность для нее мыслить и говорить лежала в сфере его богословских занятий, результатом которых стала публикация трактата «Слово о смерти». Но обозначив наличие этого контекста, вынесем его за скобки.
Мотив «молчания» пронизывает весь текст произведения. Он появляется уже в первом абзаце экспозиции: «Рыдания прерывались глубоким молчанием; молчания прерывались рыданиями» (I, 171). Затем несколько раз он возникает во вступлении, но это еще только намеки. В основной части (probatio) он выходит на первый план и развертывается в соответствии с аристотелевским принципом деления ораторского текста на «изложение» (narratio) и «разработку» (tractatio). В изложении, состоящем из трех абзацев, усопший говорит о том, что его голос стал частью общего голоса всех умерших, «голоса вечности», и он обращается к своим близким с призывом услышать его: «Послушайте меня! Отличите мой голос в общем голосе, которым говорит вечность ко времени!» (I, 172). Наличие этого обращения, грамматически оформленного во 2-м лице множественного числа, регулярное повторение его отличает «изложение» от следующих трех абзацев «разработки». В них свт. Игнатий говорит о голосе вечности с позиции христианского учения о Божественном Откровении. Важнейшей особенностью «разработки» является скрупулезная выверенность богословского содержания. Смерть и вечность свт. Игнатий рассматривает как часть естественного откровения, которое становится нам понятным из опыта, из созерцания явлений природы. Кульминацией же как «разработки», так и всего монолога в целом становится ссылка на евангельскую притчу и краткая формулировка учения о загробном молчании умерших: «Небо признало частный голос из вечности излишним. <…> Бог благоволил, чтобы не только равноангельные человеки, но Сам Единородный Сын Его возвестил вселенной волю Его» (I, 173).
Итак, основная часть монолога закончена, христианское учение о естественном и сверхъестественном Откровении кратко сформулировано – время переходить к заключению (peroratio), традиционной формой которого должно было бы стать увещание о соблюдении заповедей и приготовлении к переходу в вечность. Это увещание, действительно, присутствует в последних строках произведения, но ему предшествует совершенно необычный для церковно-риторического текста поворот сюжета – обращение умершего к своему другу: «Товарищ мой – мертвец, но еще с живым словом в устах! Прими от меня поручение и исполни его. Вот отец мой! вот мать моя! вот супруга моя! вот родные мои! не могу говорить с ними иначе, как общим голосом вечности. В этом голосе они слышат звук и моего голоса… да, они слышат его!.. но нет у меня отдельного, частного, моего слова… Товарищ мой! будь моим словом; из общей нашей сокровищницы, из священной вечности, скажи им за меня краткое, нужнейшее для них слово» (I, 173 – 174).
Антитеза молчания умерших и голоса вечности в этой миниатюре свт. Игнатия находит разрешение в просьбе усопшего к другу стать его «словом», на него возлагается миссия совершенно необычная. Эта миссия противоречит только что приведенной евангельской притче, которая ставит под сомнение успешность проповеди учения о вечности загробной жизни чисто человеческими силами: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».31 Это не пророческая миссия, поскольку призвать к ней может только непосредственно Бог. Середина XIX века – эпоха расцвета спиритизма, но это тем более не призвание медиума.
Выше уже упоминалось, что недавно было опубликовано письмо, содержащее раннюю редакцию «Голоса из вечности». Там ему предпослан примечательный рассказ о том, как это произведение создавалось: «И вот – на днях – по обычаю один я в келлии, по обычаю лежу: внезапно и живо представилось мне, что я на могиле Константина Федоровича – вместе с Вами, со всем Вашим семейством... Как будто послышался голос Константина Федоровича! Овладело душою моею чудное, неожиданное вдохновение: вскакиваю с кровати, тороплюсь начертать на бумаге мысли, представшие мне в многочисленном, очаровательном сонме. Когда я переводил их на бумагу, – рука едва поспевала изображать то буквами, то кой-какими знаками и намеками кипящие ключом мысли, перемешивающиеся с еще более чудными, тихо и насладительно волнующими душу ощущениями» (VIII, 90). Вдохновение, описанное в этом рассказе, иначе как поэтическим не назовешь. Оно возникло из внутреннего диалога с недавно умершим другом Константином Федоровичем Опочининым, и именно из этого отрывка можно понять, что просьба «стать его словом» – это призыв к творчеству. Отвлекаясь от биографической реальности события, и этот рассказ, и связанный с ним финал «Голоса из вечности» можно было бы рассматривать как своеобразные реализации мотива «призвания поэта». Более того, на равных правах с ним в последнем эпизоде миниатюры присутствует еще и мотив «памяти смертной», по сути дела, они сливаются воедино в обращении: «Товарищ мой – мертвец, но еще с живым словом в устах!» (I, 173). И здесь свт. Игнатий снова оказывается в русле элегической традиции: достаточно сравнить эти слова со строками из «Сельского кладбища», где последний мотив также отчетливо проявляется:
«А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой…»32
Готовя «Голос из вечности» к публикации, свт. Игнатий подверг его значительной правке, детали которой становятся видны из сравнения этих двух редакций. Общее содержание основного текста он оставил почти без изменений, дополнив его лишь экспозицией, о которой говорилось выше. При этом свт. Игнатий внес довольно много, больше полусотни, стилистических исправлений. Около половины из них незначительны, сводятся к замене отдельных слов синонимами, перемещению их внутри предложений с целью улучшить благозвучие текста. Некоторые исправления, на первый взгляд произвольные, имеют вполне рациональную причину. Например, в ранней редакции памятник над могилой героя называется «мрамором белоснежным» (VIII, 91), а в поздней – «гранитом зеркальным» (I, 171). Объяснение этому простое: свт. Игнатий получил известие о смерти в С.-Петербурге К. Ф. Опочинина, находясь на лечении в Ярославской губернии; в момент написания миниатюры он мог лишь вообразить, как будет выглядеть памятник, но приехав в Петербург, привел его описание в соответствие с реальностью.
Надо сказать, что подобная скрупулезность в таких, казалось бы, мелочах, как цвет и материал, из которого сделан памятник, отнюдь не случайна, а является частным проявлением общей установки литературы, ориентированной на классический идеал. В свое время Л. В. Пумпянский, иллюстрируя, как за условной аллегоричностью одического языка проглядывают реальные обстоятельства описываемых событий и подробности быта, писал об этом так: «Неоднократно говорили и говорят об абстрактности и генеральности слова в классической поэзии. Но ведь это не совсем так. Приметой классического стиля является, скорее, парадоксальное соединение крайней общности с крайней же бытовой единичностью. <…> Это не единство общего и единичного, а (в пределе) полное их неразличение, крайний случай догматического мышления эпохи».33 В творчестве свт. Игнатия это единство общего и частного усиливается за счет универсальности религиозного опыта: в его как «богословских», так и «поэтических» произведениях практически невозможно провести грань между личным опытом автора и догматическим или аскетическим его самоосмыслением. Практически всегда любой факт реальной жизни сверяется им по творениям святых отцов, точно так же и общие места светской литературы приводятся в соответствие с церковной традицией. С этим, возможно, связано то, что в некоторых исправлениях отчетливо просматривается желание догматически прояснить использованные в ранней редакции образы. Вот лишь два примера:
Ранняя редакция Поздняя редакция В первом примере, добавляя уточнение «до самой трубы воскресения», свт. Игнатий, вероятно, стремился избежать возможности восприятия «кладбищенского» мотива как внерелигиозного, чисто литературного, в духе поэзии сентиментализма. Выше отмечалось, что центральная часть монолога, где находится этот отрывок, характеризуется большей щепетильностью в отношении догматики, и поэтому такие коннотации в этом месте были бы неуместны. Цель правки второго отрывка более отчетлива: свт. Игнатий и в своих проповедях, и в богословских работах немало сил потратил на полемику с мнением о том, что загробные страдания грешников являются аллегорией или носят временный характер.
Уточняя богословский смысл приведенных отрывков, свт. Игнатий одновременно делает более образной их внешнюю форму, добавляет эпитеты, использует перифразы. В итоге прах усопших говорит с нами не просто «без слов», молча, а «без звуков, в которых нуждается слово земное», «Моисей и пророки» становятся «равноангельными человеками», а «уставы вечности» – «святыми и строгими». Вот еще один развернутый пример:
Ранняя редакция Поздняя редакция Сравнивая обе редакции, можно предположить, что свт. Игнатий стремился добиться максимальной содержательности текста; при этом он не боялся уйти от первоначальной относительной лаконичности слога, утяжелив его дополнительными риторическими фигурами, эпитетами, перифразами.
В свое время Б. Томашевский сформулировал важнейшую методологическую проблему, стоящую перед историком литературы: «Чтобы установить факторы эволюции, необходимо изучить форму движения. Между тем, объектом изучения являются „произведения", явления сами по себе статические и не всегда сравнимые между собою. Мы имеем как бы моментальные снимки объекта, находящегося в непрерывном движении, снимки разрозненные и удаленные друг от друга. <…> Предметы изучения историка литературы являются оторванными друг от друга следами движения, отдельными „точками", между которыми трудно „интерполировать", трудно найти связывающие звенья, и поэтому трудно расположить линии эволюции, проходящие через эти точки».34 Имея перед собой две редакции «Голоса из вечности», которые разделяет временной промежуток более чем в полтора десятилетия, можно лишь предположительно интерполировать процесс работы автора с текстом. Однако некоторые общие принципы, которыми свт. Игнатий руководствовался, и приемы, которые он применял, можно отчасти понять, обратившись к его произведению «Уроки словесности…» (IV, 490 – 503). Это три главы из учебника для учащихся духовных школ, который он предполагал написать. Труд этот не был завершен, сохранившиеся отрывки представляют собой общее введение и две первые главы курса риторики. Судя по этим отрывкам, он предполагал в пособии свести к минимуму теоретическую часть и сосредоточиться на практических методах написания и редактирования текстов. А то, что он, прежде всего, опирается на собственный писательский опыт, дает нам возможность в какой-то мере увидеть изнутри его творческую лабораторию.
В контексте данной работы интересна та часть, в которой автор описывает процедуру преобразования простого предложения в период. Совершается она в несколько этапов, каждый из которых свт. Игнатий сопровождает примером. Вначале он простое предложение «Человек создан Богом» (IV, 497) преобразует в сложное, добавляя к нему определения и дополнения: «Первый человек, Адам, чудно создан из ничего всемогущим и всеблагим Богом». Затем он меняет простое определение «первый» на распространенное: «Превосходнейшее из всех земных созданий» (там же) и добавляет еще одно: «Творцом всех видимых и невидимых тварей» (там же). Затем вставляет придаточные предложения. В итоге он получает распространенный период: «Превосходнейшее из всех земных созданий, человек, в противоположность грубым массам бесчувственного вещества, явившимся в начале дел Творца, сотворен после всех тварей всемогущим и всеблагим Богом, Который, как бы возлагая священную печать на дело творения, сотворил наконец человека» (там же). Сравнивая этот пример из учебника риторики, с изменениями которые произошли в последнем, приведенном нами, примере из «Голоса из вечности», видим, что правки, внесенные свт. Игнатием, также заключаются в замене простого определения на сложное, добавлении эпитетов и придаточных предложений. При этом он сохраняет композицию монолога, практически ничего не удаляет из него, а только дополняет и перефразирует. Существенная разница обнаруживается лишь в том, что текст из учебника риторики слегка перегружен, труден для чтения, а текст миниатюры гораздо более приспособлен для устного произнесения.
Проблема ясности и благозвучия риторического текста была очевидна для свт. Игнатия, к ней он в учебном пособии обращается далее: «При превращении предложения в период, сообразно цели этого превращения, должно стремиться единственно к тому, чтоб мысль была выражена как можно полнее и точнее. Для этого не только должно заботиться о том, чтоб приисканы были все выражения и слова, доставляющие мысли определенность, но и о том, чтоб не были вставлены в речь слова и выражения излишние, затемняющие речь и отнимающие у речи ясность и определенность. Русской речи нейдут длинные периоды. Русский человек говорит отрывисто, заметил один из наших лучших литераторов. И потому если имеется много понятий и мыслей, которые все очень нужны для объяснения главной мысли, и не могут быть упущены, то речь должно разделить на два периода» (IV, 498). Глядя на изменения, вносимые свт. Игнатием в «Голос из вечности», с учетом его понимания принципов риторики, становится понятно, что, редактируя свою миниатюру, он добивался максимальной сбалансированности как ее художественного и богословского содержания, так и выверенности, благозвучности формы.
В одном из писем к своей духовной дочери С. И. Снессоревой свт. Игнатий отмечал: «Картины мои пишу с двух приемов. В первый творю, во второй – занимаюсь отделкой» (V, 511). Сравнение двух редакций «Голоса из вечности» наглядно показывает нам этот метод его работы, то, как текст, рожденный по поэтическому вдохновению, корректировался им по правилам школьной риторики.
Середина XIX века – эпоха активного поиска новых стилей и жанров в русской духовной литературе. Это время, когда старая, уходящая в древнерусский период, опирающаяся на церковно-славянский язык литература входит в тесное соприкосновение со светской, ориентированной на европейские образцы. Это время, когда от духовного писателя требовались не только приверженность к православно-богословской традиции и владение словом, но и широкая образованность, отточенный художественный вкус, а главное, способность к творческому эксперименту. Все эти качества в высшей степени были присущи свт. Игнатию Брянчанинову. Вот почему ему удалось выработать особый художественный язык, в котором могли сплавиться воедино, казалось бы, такие далекие явления литературы, как монашеская аскетическая проза и сентименталистская элегия. Укорененность его творчества в равной мере как в святоотеческой традиции, так и светской культуре своего времени оказала влияние на поэтику его произведений. Три рассмотренные миниатюры дают нам не только пример удачного синтеза поэзии и церковной риторики, но показывают, как благодаря творчеству свт. Игнатия размывалась граница между духовной и светской частями русской литературы в середине XIX века.
1 Бердяев Н. А. Смысл творчества // Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 391.
2 За последние годы произошел серьезный прорыв в исследовании жизни и творчества свт. Игнатия. При подготовке к печати восьмитомного «Полного собрания творений» исследователями было выявлен обширный корпус ранее неизвестных материалов, позволивших уточнить многие факты его биографии. Во вступительных статьях и комментариях к этому изданию описаны взаимоотношения святителя с разными деятелями русской культуры и искусства, церковными иерархами, военачальниками и государственными деятелями Российской империи. Далее тексты свт. Игнатия будут цитироваться по этому изданию: Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова: В 8 тт. М., 2002 – 2007. Римская цифра указывает том, арабская – страницу.
3 Флоровский Г. прот. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 393.
4 Подробнее об истории восприятия Фомы Кемпийского в России, в том числе о полемике по поводу «О подражании Христу» между свт. Филаретом Московским и свт. Игнатием см.: Стрижев А. Н. Фома Кемпийский в России // Богословские труды. Сборник 40. М., 2005. С. 368 – 384.
5 Хондзинский П. свящ. На пути к синтезу (Св. Тихон Задонский и Иоганн Арндт). // Христианство и русская литература. Сборник 6. СПб., 2010. С. 6 – 7.
6 О творчестве свт. Филарета и архиеп. Иннокентия см.: Зубов В. П. Русские проповедники. Очерки по истории русской проповеди. М., 2001. С. 115 – 210.
7 Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». Спб., 1994. С. 13 – 15. Об истории этих переводов см.: Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 195 – 297.
8 О проблеме соотнесения православной богословской традиции с масонской литературой, об их взаимном влиянии и отталкивании см.: Хондзинский П. свящ. Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. М., 2010.
9 Сахаров В. И. Русская масонская поэзия (к постановке проблемы) // Масонство и русская литература XVIII – начала XIX века. Под ред. В. И. Сахарова. М., 2000. С. 77.
10 Говоря о влиянии на форму произведений свт. Игнатия «прозаической элегии», мы выносим за скобки еще один важный фактор: традицию переводить прозой поэтические богослужебные тексты и стихотворные сочинения византийских святых отцов.
11 Некоторые аспекты этой проблемы рассмотрены в работе: Гладкова Е. В. Духовная проза 1830 – 1870-х годов. // Христианство и русская литература. Сборник 5. СПб., 2006. С. 195 – 197.
12 Подробнее о литературных мотивах, связанных с различными образами моря см.: Хорват К. Романтические воззрения на природу // Европейский романтизм. М., 1973. С. 224 – 229; Топоров В. Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 575 – 622; Чекалов К. А. Мореплавание и шторм: от прозы барокко к ранним романам Э. Сю // Романтизм: вечное странствование. Отв. ред. В. А. Вишневская, Е. Ю. Сапрыкина. М., 2005. С. 74 – 97.
13 Мф. 14: 25 – 31.
14 Топоров В. Н. Указ. соч. С. 586 и далее.
15 Обратим внимание на последние слова цитаты. По сути дела это эпитафия, причем самый традиционный ее вариант. Ниже, разбирая миниатюру «Голос из вечности», мы коснемся проблематики этого жанра в контексте творчества свт. Игнатия.
16 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 394.
17 Вацуро. В. Э. Цит. соч. С. 58 – 63.
18 Там же. С. 59.
19 Топоров В. Н. Цит. соч. С. 587.
20 Миниатюра «Кладбище» была написана в 1844 году как отклик на посещение свт. Игнатием своего родного поместья и семейного кладбища.
21 Интересно то, как «поэтическим» образам свт. Игнатия его корреспондент, преп. Макарий Оптинский, в свою очередь, дает свою «назидательно-аскетическую» интерпретацию: «Для меня весьма утешительно, что вы изволите паметать о нашей обители и ските. Точно шум сосен приятен, напоминает о древних обитателях лесов, искавших спасения душам своим между ими и удалявшихся от шума волн мирских, чрез что возрастает желание соревновать оным по силе нашей» (VI, 610).
22 Михайлов А. В. Методы и стили литературы. М., 2008. С. 24.
23 Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 227 – 252.
24 Там же. С. 252.
25 Подробнее см.: Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX-XX вв. Источники. Эволюция. Поэтика. СПб., 1999; Веселова В. Эпитафия – формульный жанр // Вопросы литературы. 2006, № 2. С. 133 – 145.
26 См.: «Последование по исходе души от тела» песнь 6, тропарь 2; песнь 8, тропарь 1
27 Терминология употребляется в соответствии с изложением риторической системы, предложенной М. Л. Гаспаровым. Подробнее см.: Гаспаров М. Л. Античная риторика как система // Гаспаров М. Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика. СПб. 2000. С. 424 – 472.
28 В последнем абзаце монолога вновь возникнет обращение к близким, создавая рамочную конструкцию его композиции.
29 Жуковский В. А. Собр. соч. В 4-х тт. Т. I. М. – Л., 1959. С. 32. Подробнее об этом стихотворении В. А. Жуковского и его влиянии на русскую литературу см.: Фрайман Т. Творческая стратегия и поэтика В. А. Жуковского (1800-е – начало 1820-х годов). Тарту, 2002. С. 12 – 35; Топоров В. Н. «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии // Russian Literature. Vol. 10. Issue 3. Amsterdam. 1981. P. 207 – 282.
30 Виролайнен М. Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 442.
31 Лк. 16: 31.
32 Жуковский В. А. Цит. соч. С. 32.
33 Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума. // XVIII век. Вып. 14. Л., 1983. С. 30 – 31.
34 Томашевский Б. В. Писатель и книга. Очерк текстологии. М. – Л., 1928. С. 133 – 134.
Тишина нерушимая – удел кладбища. Прахи мертвецов говорят без слов...(VIII, 91).
Молчание, тишина нерушимая достояние кладбища до самой трубы воскресения. Прахи мертвецов говорят без звуков, в которых нуждается слово земное...(I, 171).
И какой голос из вечности уже не лишний, когда Бог благоволил, чтоб не только Моисей и Пророки, но Сам единородный Сын Его возвестил земле волю Его, возвестил ей уставы святой, блаженной вечности? (VIII, 92).
И какой голос из вечности уже нелишний, когда Бог благоволил, чтобы не только равноангельные человеки, но Сам Единородный Сын Его возвестил вселенной волю Его, возвестил святые и строгие уставы блаженной для послушных, страшной для непокорных вечности? (I, 173).
Мой голос слился с общим голосом небожителей; для прочих жителей земли я мертв, безгласен, как и другие мертвецы. Но для вас я жив, – и, мертвый, говорю слово спасения лучше, нежели как сказал бы его, живя между вами и вместе с вами гоняясь за призраками благ, которыми тление обманывает и губит странников земных (VIII, 92).
Мой голос слился в стройное согласие с общим голосом обширного невидимого мира. Для всех странников земли я – мертв, безгласен, как и все мертвецы, но для вас я – жив и, мертвый, говорю слово спасения открытее, сильнее, нежели как сказал бы его, оставаясь между вами и гоняясь вместе с вами за призраками благ, которыми тление обманывает и губит изгнанников из рая, помещаемых на короткое время в земной гостинице для примирения с прогневанным ими Богом (I, 173).